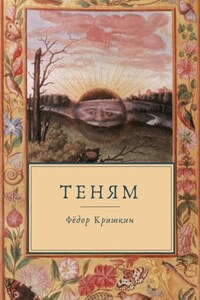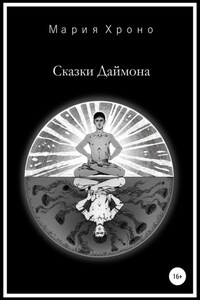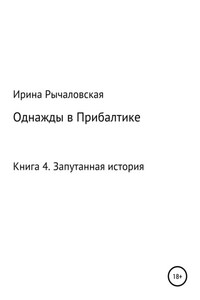Приди в мой дом. Я открою вино и стану тебе певцом странных историй о любви и смерти, о тех, кто рядом, о тех, кого соткали из воздуха. Я уходил в дальний путь, но сейчас я усталый, смирившийся. Поднимись ко мне, не постигший, как я, премудрости, обозри основанье, ощупай стены мои – здесь они не обожжены ли и заложены не семью ль мудрецами?
Это не мыши – то скрипит дверь, её давно пора утешить. По ночам она то скребётся, то плачет, что ель в феврале. Ты сиди, я сейчас принесу альбом, чтобы потом подарить его тебе. Вот, возьми. Это и есть та ель. Вернее, отдельные ветви её. Ты ешь, ешь. А случилось там вот, что: падал крупными хлопьями снег, и семья притащила домой ель. Я был маленьким мальчиком, оставался я им и теперь. Ель несла нам тепло и уют, хоть иголки кололи глаза, прокололи и связки, когда за еловый обед я вдруг пса наказал. А пес, он хорош, они падали всё, те иголки с мантильи её. Я так любил её, но как влюбленный её не сберёг. Так и остались три веточки в вазе,
расшитые крестиком, как бабушкин плед, что я вспомнил не сразу и думал: какой пустяк! Как-то я видел иные побеги на веточках елки моей, а мама сказала: ведь ты такой добрый, с чего бы не вырасти ей? Как известно мне, вся темнота начинается с мысли о ней. Так и подумал я: как же такой, как я, может вырастить ель? Всё, я забыл поливать её, вот и опали все иглы с ветвей. Те, что росли, всё мечтали сбежать и ночами стучали в дверь. Так доживали три ветви моих на закате того февраля, где я был маленьким, где как могли утешали родные меня. Всё это здесь, ты смотри, я не против, ведь я же тебя пригласил. Всё это было, и солнце плыло, и тень обнимала стены. Но верю я, что пойдет мальчик по беленьким улицам, и будет рыльце в пушку.
Будет он светлым, как брошенный принц в шубе тысячи лисьих шкур, и среди тысячи голых ветвей он увидит ту самую ель, а в ней – мантилью и крестиком вышитый храм, что отворит дверь. Не скрою, смотрю на тебя с ожиданием. Что же ты так длительно и набожно смотришь на моё невинное улыбающееся лицо на снимке, зачем так притворно замедляешь возвращение, зачем так притворно тормозишь взглядом руку свою, отдавая карточку с задержкой? Не думай, что неучтиво расстаться с ней вдруг. Совсем напротив, это было бы высшей степенью учтивости. Посмотри на эти ужасающие снимки: вот я… минуту, это ты видел только что. Вот. Вот мы. Вот Лёва, вот Лёшка, вот Дюша с Борей, вот Сафочка-любитель Моэма (это мне Лёва сказал с такой гримасой, словно не любит корицы; впрочем, Моэма он действительно не переносит), а вот и тихая Бехина. Мы все веселы, все с собаками, в венках. Вот и собаки. Ты посмотри, какие сморщенные. Мужчины гладки, что их лезвия. Ни пореза. Девушки милы, как всякий новый знакомый. Вокруг травы, цветы, деревья. В доме небо, в водах – жёлтые кролики. А теперь отвлекись, посмотри. Нет, ты посмотри в окно. Где небо, где травы, где венки? Только жующие нёба, только усопшие травы, венки тиснят золотом. Лишь тени смеются на скамье. Ты возьми альбом, там ещё много всего. Да возьми, я дарю! Не хочешь, не удобно. Ладно. В конце концов, если он не нужен даже мне, то почему вдруг может понадобиться тебе? А давай сожжём все эти фотографии, как счастливые язычники? Бери, вот, да. Слышишь, как шумят над нами благовония, как шепчутся о нас языки пламени? Если нет пожара в душе моей, то пускай он заполнит дом этот, и пускай не будет больше ни альбома ни памяти, и подобно пыли на этой мерзкой книге, пусть и книга эта превратится в пыль.
По завершении ритуала на одной из стен скопился прах времени. Из пепла выросла ель, и счастливые лица, оставшиеся в счастливых днях, смотрели, как и раньше, на жреца своего. Я не могу в них поверить. Может, ты сможешь в этом помочь, мой безоблачный день? Ты всегда пред моими глазами. Я хочу распахнуть окно и позвать тебя сквозь это зеркало.
Приди в мой дом. Я открою вино и стану тебе певцом странных историй о любви и смерти, о тех, кто рядом, о тех, кого соткали из воздуха. Я уходил в дальний путь, но сейчас я усталый, смирившийся. Поднимись ко мне, не постигший, как я, премудрости, обозри основанье, ощупай стены мои – здесь они не обожжены ли и заложены не семью ль мудрецами?
Притч. 5:2-6, 5:15
Сейчас ты не в самом выигрышном положении
М.
Близился экзамен по земблянскому языку. Проснувшись рано и почувствовав себя раной, я тут же предпринял большие дела: помолился, как молюсь сейчас, побрился, оставив борозды на своём ныне безбородом лице, отстроил стену вместо дома, обошёл все виноградники, бросил камень одному из французских бульдогов, устроил себе сады, где насадил рябин, и рощи, где насадил всякие плодовитые дерева; сделал себе водоемы для орошения из них борозд безбородого лица своего, являвшего собой океан мудрости и произращающего иные деревья – те, из которого которых надобно делать дрова; домочадцы были, а служанок – ни капли; слов и острот у меня было больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Загорянке; собрал себе звенящего фоном серебра и золота и драгоценностей от царицы Земблянской и областей; сам я себе был певцом, и звуки голоса были музыкальным орудием моим. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Загорянке; и мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. Но оглянулся я, скурив дотла июльский полдень, на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все – суета и томление духа, и не было от них пользы под сенью цветущих деревьев!
И хотя я был раной, я был верноподданным царицы Земблянской, вскормившей и вырастившей нас. Нас было семеро, и каждый был другому другом, понимая с полуслова, полувзгляда, полужеста, и если один рвал клеверы и плёл из них венок, то то же самое делал и второй, и третий и так далее… а когда и эта забава обиженно переставала избавлять от находившей нас скуки, то и дело находившей из-за ласкавшей нас лени, мы принимались надевать венки на бульдогов, после чего призывали всякого прохожего оставить надежду у наших ворот, где реяло знамя Красного Солнца, и был слышен смелый вой обвитого цветами Цербера. Нашим талисманом был Лёшка. Если и была омыта Зембла морем милости, то тихие кольца глаз его были сотканы из океанской воды, где просыпались вместе детская чувствительность и добрая нежность, из-за чего мы хранили его, а он – нас. Самым тонким во всех смыслах был Лёва. Духовно- и метафизически-тонким он был в том простом смысле, в каком был чудаком. Таковым его считали, кажется, все студенты, в том числе и чешская еврейка Сафочка. Была она очень доброй, но в то же время напоминавшей венок, не так давно нами сплетённый. Лёва, с которым Сафочка до поры до времени обращалась с особым вниманием, с поразительной точностью описал наиболее яркие черты её: вострый её нос, напоминавший о великоморавских князьях (на этом Лёва почему-то заострял не меньшее внимание), отточенность и даже оканцеляренность, как он выражался, речи, почерпнутая из книг и политических речей, подразумевавшая собой обилие поговорок, просторечий и диалектизмов, так напоминающих только-только начатое художником, врезанное в реалистический пейзаж, сновидческое, почти что мистическое, древо, какое человек видит всего раз и никогда больше. Были и вечные друзья, то есть Дюша и Боря. Они были теми, кто шутит на задних рядах, но смеются и ряд, и шкафы, и кабины. Была и ещё одна девушка чёрного агата по имени Бехина. Многие видные историки, говоря о ней, не менее многое упускают. Я же, хотя и не могу выписать объёмный её портрет, говорю, что многое в ней сокрыто, и ни у одной повитухи не получилось бы выведать секрета приятности всего её духовного существа. И хотя все мы были раны и раджкумари, мы были верноподданным царицы Земблянской, вскормившей, вырастившей и поместившей нас в загорянский ашрам – идиллический уголок, полный почти что святой простоты.