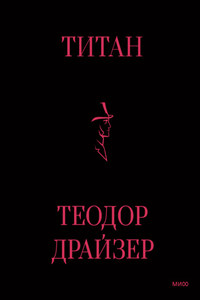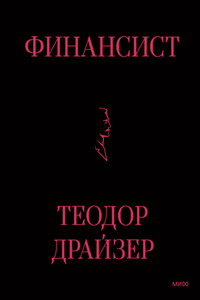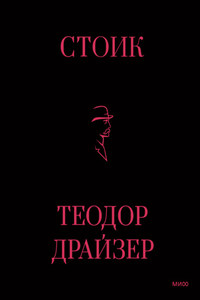Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд вышел из филадельфийской исправительной тюрьмы, он понял, что с прежней жизнью в родном городе покончено. Прошла молодость, а вместе с ней рассыпались в прах его первые дерзкие финансовые замыслы. Придется все начинать сначала.
Не стоит повторять рассказ о том, как новая паника, последовавшая за грандиозным банкротством фирмы «Джей Кук и К°», принесла Каупервуду новое богатство. После этой удачи его ожесточение несколько улеглось. Сама судьба, казалось, пеклась о нем. Однако карьера биржевого спекулянта внушала ему теперь непреодолимое отвращение, и он решил отказаться от нее раз и навсегда. Лучше заняться чем-нибудь другим: городскими железными дорогами, скупкой земельных участков – словом, умело использовать все безграничные возможности, которые сулит Запад. Филадельфия ему опротивела. Пусть он свободен и снова богат, но ему не избежать злословия лицемеров, так же как не проникнуть в финансовые и светские круги местного общества. Он должен идти своим путем один, ни на кого не рассчитывая, ибо если кто-нибудь из старых друзей и захочет помочь ему, то предпочтет сделать это втайне и следить за его действиями издалека. Все эти соображения побудили Каупервуда уехать. Его очаровательная любовница – ей едва исполнилось двадцать шесть лет – пришла на вокзал его проводить. Каупервуд смотрел на нее с нежностью: она была олицетворением той женской красоты, которая всегда его волновала.
– Ну, до свиданья, дорогая, – сказал он ей с ободряющей улыбкой, когда раздался звонок. – Скоро все наши неприятности кончатся. Не грусти. Через две-три недели я вернусь или ты приедешь ко мне. Я бы и сейчас взял тебя с собой, но я еще не знаю, как он выглядит, этот Запад. Мы решим, где нам поселиться, и тогда ты увидишь, умею ли я добывать деньги. Не вечно же нам жить как прокаженным. Я добьюсь развода, мы поженимся, и все будет хорошо. С деньгами не пропадешь.
Он посмотрел ей в глаза спокойным, испытующим взглядом, а она, сжав ладонями его лицо, воскликнула:
– Как я буду скучать без тебя, Фрэнк! Ведь ты для меня все!
– Через две недели я вернусь или пришлю телеграмму, – улыбаясь, повторил Каупервуд, когда поезд тронулся. – Будь умницей, детка.
Она ответила ему взглядом, полным обожания; избалованное дитя, всеобщая любимица в семье, натура страстная, пылкая, преданная, Эйлин принадлежала к тому типу женщин, который не мог не нравиться столь сильному человеку, как Каупервуд. Тряхнув копной рыжеватозолотистых волос, она послала ему вдогонку воздушный поцелуй, круто повернулась и пошла широким, уверенным шагом, слегка покачивая бедрами; все встречные мужчины оглядывались на нее.
– Видал? – кивнул один станционный служащий другому. – Та самая – дочь старика Батлера. Нам бы с тобой такую, неплохо, а?
То была невольная дань восторга, которую зависть и вожделение неизменно платят здоровью и красоте. А страсти эти правят миром.
До этой поездки Каупервуд не бывал нигде западнее Питсбурга. Финансовые операции, которыми он занимался, при всем их размахе преимущественно протекали в косном и ограниченном мире филадельфийских дельцов, известном своей кастовостью, притязаниями на первое место в социальной иерархии и на руководящую роль в коммерческой жизни страны, своими традициями, наследственным богатством, приторной респектабельностью и теми вкусами и привычками, которые всем этим порождаются. Он почти завоевал этот чопорный мирок, почти проник в его святая святых, он уже был всюду принят, когда разразилась катастрофа. Теперь же он – бывший каторжник, всеми отверженный, хотя и миллионер. «Но погодите! В беге побеждает тот, кто быстрее всех, – твердил он себе. – В борьбе – самый ловкий и сильный. Еще посмотрим, кто кого одолеет». Не так-то просто его растоптать.
Чикаго открылся его взору внезапно на вторые сутки. Каупервуд провел две ночи среди аляповатой роскоши пульмановского вагона тех времен, в котором неудобства возмещались плюшевыми обивками и изобилием зеркального стекла; наконец под утро стали появляться первые уединенные форпосты столицы прерий. Путей становилось все больше и больше, а паутина проводов на мелькавших в окне телеграфных столбах делалась все гуще и плотнее. На подступах к городу там и сям торчали одинокие домишки рабочих – жилище какого-нибудь предприимчивого смельчака, поставившего свою лачугу на голом месте в надежде пусть на маленький, но верный доход, который принесет ему этот клочок земли, когда город разрастется.
Вокруг стлалась гладкая, как скатерть, равнина со скудной порослью порыжелой прошлогодней травы, слабо колыхавшейся на утреннем ветру. Но местами пробивалась и молодая зелень – знамя наступающего обновления, предвестник весны. Воздух в этот день был необычайно прозрачен, и сквозь его чистый хрусталь неясные очертания далекого города проступали, словно контуры мушки в янтаре, волнуя Каупервуда тонким изяществом рисунка. Коллекция картин, собранная им, а затем пущенная с молотка в Филадельфии, доставила ему столько радостей и огорчений, что он пристрастился к живописи, решил стать настоящим знатоком и научился понимать красоту, когда встречал ее в жизни.
Железнодорожные колеи разветвлялись все чаще. На путях стояли тысячи товарных вагонов, желтых, красных, синих, зеленых, белых, пригнанных сюда со всех концов страны. В Чикаго, вспомнилось Каупервуду, словно меридианы к полюсу, сходятся тридцать железнодорожных линий. Низенькие деревянные одноэтажные и двухэтажные домики, как видно, недавно построенные и часто даже неоштукатуренные, были уже покрыты густым слоем копоти, а порою и грязи. У переездов, где скапливались вагоны конки, фургоны, пролетки с налипшей на колесах глиной, внимание Каупервуда привлекли прямые немощеные улицы, неровные тротуары: тут – ступеньки и аккуратно утрамбованная площадка перед домом, там – длинный настил из досок, брошенных прямо в грязь девственной прерии. Ну и город! Внезапно показался рукав грязной, кичливой и самонадеянной речонки Чикаго. По ее черной маслянистой воде, пофыркивая, бойко сновали буксиры, вдоль берегов возвышались красные, коричневые, зеленые элеваторы, огромные желто-рыжие штабеля леса и черные горы антрацита.
Жизнь тут била ключом – он это сразу почувствовал. Строящийся город бурлил и кипел. Даже воздух здесь, казалось, был насыщен энергией, и Каупервуду это пришлось по душе. Как тут все непохоже на Филадельфию! Тот город тоже по-своему хорош, и когда-то он представлялся Каупервуду огромным волшебным миром, но этот угловатый молодой великан при всем своем безобразии был неизмеримо лучше. В нем чувствовались сила и дерзание юности. Поезд остановился, пока разводили мост, чтобы пропустить в оба направления с десяток груженных лесом и зерном тяжелых барж, и в ярком блеске утреннего солнца, лившегося в просвет между двумя грудами каменного угля, Каупервуд увидел у стены лесного склада группу отдыхавших на берегу ирландских грузчиков. Бронзовые от загара, могучие здоровяки в красных и синих жилетках, подпоясанные широкими ремнями, с короткими трубками в зубах, они были великолепны. «Чем это они мне так понравились?» – подумал Каупервуд. Каждый уголок этого грубого, грязного города был живописен. Все здесь, казалось, пело. Мир был молод. Жизнь создавала что-то новое. Да стоит ли вообще ехать дальше на северо-запад? Впрочем, это он решит после.