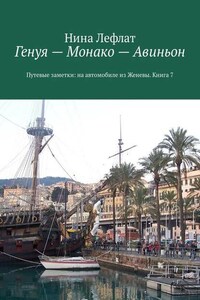В пятницу меня отправляют туда.
Туда – это темное, салатно-зеленое пространство, пропахшее обойным клеем, место, в котором замирает время, и стрелка груши-часов в коридоре никуда не спешит.
Я ненавижу пятницы.
Из грязного окна сочится тягучая серость солнца в зените, тихо-тихо работает телевизор – и там, внутри него, тоже бесконечная тоска. Сменяют друг друга оранжевые заставки, пластиковые люди пожимают руки, передают фальшивые зеленые банкноты, со скучающим видом убивают друг друга из черных матовых пистолетов. Это всё ненастоящее. Это всё для тех, кто уже за жизнью. Как дед, как бабушка.
А я – еще только перед ней.
Я ложусь на ковер и рассматриваю его узоры, кляксы, в которых мне чудятся красноватые театральные рожи с черным ртом. Считаю плитки потолка – хорошо бы наступить на каждую из них ногами, послушать хруст пенопласта. Стыки обоев с рваными краями. Мутные тетки с блестящими влажными зубами рекламируют наручные часы. Зачем часы? Лакированный шкаф, скрипучие дверцы.
Все спят. Шуметь нельзя.
И мать не звонит.
Никто не звонит. Никто никого не будит.
Никого не будет.
Все спят.
* * *
Родители – неплохие люди. В том, что они поместили меня сюда, их вины нет. Если это происходит в будние дни. А сегодня – сегодня они просто не ведают, что творят.
Еще раз: я ненавижу пятницы. Во-первых, в пятницу я родилась – слава богу, что не в пятницу тринадцатого. А во-вторых… Как бы объяснить это «во-вторых»?
Во-вторых, в пятницу она ходит «на танцы». «Ой, какая молодец твоя мама! А какие танцы? Бальные? Румба?»
Я ожесточенно молчу.
По пятницам мать раскрывает верхнюю секцию шкафа, где лежат те самые вещи. Это значит, что час настал.
У матери три вида одежды: «надел ды пошел» – раз. За этот можно не бояться: это на работу, в магазин, на улицу. «Приличный» – два. Тоже безопасно. «На танцы» – три. Этот – самый ужасный. Когда я вырасту, то спалю все эти шмотки – все эти кожаные юбки на ремне, сабо, полупрозрачные кофты в рюшах, красные шляпы, обтягивающие сиреневые джинсы.
Джинсы эти она притащила на прошлой неделе после того, как всё утро провела «на базаре».
– Ну, как я? – мать крутилась перед нами с отцом, отклячивая квадрат задницы, надувала губы, стягивая такую же сиреневую джинсовую куртку на груди. Мать была очень хороша. Сексапил.
Я уткнулась отцу в плечо и захныкала.
– Ты чего? Чего ты, чего? – испуганно закудахтала мать.
Объяснить, чего я – про «танцы» и вообще, – было слишком… невозможно, невозможно это было. Не полагалось, открывало суть моих тревог, моего совсем не детского ума, который «впитывал, как губка» – это часто повторяла мать, сама не понимая, о чем говорит.
– Ты, наверное, тоже хочешь новые наряды, да? Да? Ну, успокойся, – она опустилась на колени у старого дивана с подушками-буханками. – Завтра с тобой сходим на рынок. Хочешь? Купим тебе штанишки и какую-нибудь маечку…
И мы пошли на рынок, продираясь между рядами, накрытыми толстым полиэтиленом от дождя. Так у меня появились джинсы с застежкой-клубничкой. После мать отвела меня в кафе с тканевыми зонтиками – тут же, на рынке. Нам выдали две картонки с коричневым шашлыком на шпажках и горкой сизого лука. Я сбросила лук в помойку, налила на край картонки кетчуп – огромная красная бутыль стояла на каждом пластиковом столе. Запивали всё шипучим приторным «Спрайтом». Это была мать номер один – добрая, великодушная, щедрая.
А есть еще мать номер два. Мать номер два взрывается без повода, орет с гаркающим свистом, лупит руками по мебели и рвет зеленые школьные тетрадки: «Тупиздень! В кого ты такая тупиздень?».
И еще эта мать номер два ходит «на танцы». В пятницу вечером.
– Одевайся живее. Цигель-цигель!
Я провожаю взглядом стопки своих книжек – возьму вот эту, про иголку в водопроводе, – складываю в специальный пакет на кнопке белую куклу с оранжевыми волосами, единственного Кена с полыми штанинами вместо ног и третью, разлучницу, – смуглую тонкую барби с каштановой косой и гнущимися в коленях и локтях ногами-руками.
Мать застегивает на мне зеленую куртку космонавта, в молнию обязательно попадает кожа на подбородке, затягивает шарф – душит, под узел всё равно задувает ледяной осенний ветер. «Ну что ты вечно недовольная? В каприз обвалялась…»
Хлопает деревянная дверь, на три оборота закрывается железная. Мы выходим во двор.
* * *
Дома тоска не та, что там. Дома тоски не существует. Есть книжки, есть всякие другие занятия. Играть в школу – царапать батарейкой по крышке «бара» (секция в стенке с откидной крышкой, если навалиться – отломится; уже отломилась), вроде как мелом по доске. Можно и просто играть – в куклы, в хрустальный замок из серванта с лебедями-салфетницами. Можно писать сказку про мышь, про лисенка, который ищет дом, – это моя игрушка, набитая маленькими шуршащими шариками. Придумывать досье на одноклассников – подсмотрела в «Ералаше» и забрала у отца синюю папку со страшной надписью «Акты ремонта из Москвы». Внутри – просто бумажки, ни дырокола, ни хрустящих файлов у меня нет. Когда вырасту, будут.
Дома не живет тоска – ей негде ночевать в нашей двенадцатиметровке. Такие дома, как наш, называются ЗГТ – здание гостиничного типа, – и каждый год нам обещают, что тут вот-вот и вправду будет гостиница, а нас расселят по уютным квартиркам в новых домах. На каждом этаже ЗГТ по десять таких комнат с крохотными предбанниками, где стоят одинаковые электрические плитки с одной конфоркой и одинаковые холодильники «Полюс». Еще к комнате примыкает крохотный туалет и кладовка. Умельцы вроде моего папы переделывают этот один метр кладовки в душ, чуть менее смекалистые моются прямо над унитазом, поливая себя из кружки.
На диване спят родители, и он кажется мне огромным; между одеял можно валандаться, воображая, что плаваешь в море. Мое место – в раскладном кресле, за которое утыкают мутные банки с соленьями.
Однажды ночью будет потоп, наводнение, цунами до самого нашего пятого этажа. И все мы останемся плавать на своих кроватях, потерявшись в бескрайнем море. У меня хотя бы будут банки. Я смогу кого-нибудь спасти – может, Женю Дохорова из нашего класса. А родители? Как?
А еще елка. Возле дома, нашего сто-писят-пять-корпус-один, растут гигантские ели, выше крыши. И если в каждой квартире просверлить дырку в полу, и в крыше сделать дырку, и деревья засунуть внутрь дома, то у всех всегда будет по куску. Настоящая ель – всегда, круглый год.
– Она полквартиры займет, – усмехается мама. – Вот вырастешь – сделаешь. И дырки в полах, и елки, и что хочешь.