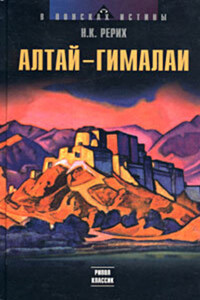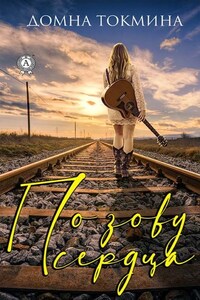Трагедия творчества или трагедия русского творчества? Всякое ли художественное творчество есть религиозная трагедия или русское творчество, в своем высочайшем и вполне созревшем напряжении, становится трагедией чисто религиозной? Муза, – любимая женщина, становится Матерью-Родиной, как стала она Родиной для Достоевского, для Гоголя, для Толстого. Но тут… я останавливаюсь: какой неожиданный ответ, что прибавить? Предвестие прошло перед нами с грозным шумом и пением: что это – весенняя благодатно зашумевшая над нашими сердцами гроза или страшный антихристов соблазн, объявление нового странника, уже почти окруженного сиянием святости? Как неподвижная глыба многие годы над Европой занесенный Толстой каменел вопросом; но он был великой вершиной русского творчества; и к нему присматривались с боязливым недоумением. И вот каменная глыба тронулась, покатилась; уход Толстого от мира – глухой гром: вопрос разрешился в великую скорбь, ужас и страх за Россию для одних, в благоухающее предвестие, надежду и радость для других. Камень, срываясь и скатываясь, обрастает снегом; лавина растет. И не в Толстом только тут дело. Толстой сидел тридцать лет в тупике: ни взад, ни вперед. Тридцать лет переживал он трагедию творчества. И вот Толстой встал и пошел – тронулся. Как знать, не тронется ли так же и Россия, тоже больная; как бы грохот лавинный чуется нам в движении Толстого: есть тут чего бояться Европе. Не философии западной противопоставляется тут восточная, а сказанному уже слову культуры – еще не сказанное несказанное слово уже грядущей культуры русской. Предпоследнее еще не высказано, о последнем уже говорят – не слишком ли рано?
Русская культура еще не есть наш родимый дом; мы – бездомны; но русская культура уже давно преподносится нам как чаяние. Даже вслух мы не смеем сказать о том, о чем втихомолку мы перешептываемся в углах; самая надежда наша, устремленная к России и высказанная, способна обратиться в пошлость и самонадеянность; и с поспешным высказыванием наших надежд должны мы бороться едва ли не с большим ожесточением, чем с высказыванием наших разочарований.
Ты пойми… Мы ни здесь, ни тут.
Наше дело такое бездомное,
Петухи поют, поют…
Но лицо небес еще темное
[1].
И снова, и снова, в темном дыме всяческой провокации, – снова громкий голос предрассветного петела.
Во всяком случае, как бы мы ни смотрели на то, что вчера было, мы знаем: совершается огромное событие в жизни русской, столь же важное, как крупнейшие события истории, событие, равное Цусиме. «Новая Цусима», – скажут одни; но найдутся и иные и скажут: «Новое Куликово поле».
Лев Толстой, краса русской жизни, восьмидесятилетний старец, великий писатель мира, перешел все грани в трагедии творчества, вынес трагедию, не упал в эпилептический припадок, как Достоевский, не умер, как Гоголь; с ним русская литература пошла в далекое странствие, к Новому граду, ей увиденному. Символический странник, получивший литературное имя, Влас, стал реальным: не дядя Влас ходит в полях русских, нет, туда пошел Лев Толстой. Не смеем мы пускаться в дальнейшее толкование: года, десятилетия будем мы обсуждать случившееся; а ныне мы можем лишь сказать «аминь».
И умолкнуть.
Случевский, упомянув о мнении Страхова, будто в деятельности Достоевского есть нечто героическое, связывает с Достоевским Толстого; в деятельности обоих есть нечто героическое. Что оба – богатыри не в фигуральном, а в реальном смысле этого слова, это мы знаем хорошо; уход Толстого наконец развязывает то богатырское начало нашей литературы, которое пока сиднем сидело. Как знать, может быть, мы уже исчерпали весь размах современного литературного хулиганства и дальше уже идти некуда; во всяком случае, хуже не может быть; быть может, даже самый трупный яд литературного разврата разложился и никому не опасен: небо очистилось, и тут услышали мы лебединое пение последнего из «стаи славной», обращенное к будущему – к героическому периоду нашей жизни.
Толстой, Достоевский, Гоголь – все трое величайшие русские художники – все трое осознали трагедию художника, все трое в художнике увидели нового человека, все трое связали новое человечество с новой, им приснившейся Россией, все трое религиозно осознали свое отношение к родине. И потому-то, говоря о трагедии творчества у Достоевского, уместно упомянуть, что для всех троих эта трагедия – одна.
Если мы пристально вглядимся в творческую жизнь величайших художников слова, создавших произведения, понятные для всех людей без исключения, нам все будет казаться, что есть какое-то утаивание от толпы последнего смысла пленяющих нас творений; перед нами окажется ряд вполне логикой уяснимых словесных красот, далее – красот самой образности, далее – красот явно сквозь образы глядящей на нас идеи; мудрая мысль, облеченная в прекрасный образ, будет дана нам в звучной, красиво составленной фразе; нечего поэтому защищать красоту гетевского стиля, или чеканку пушкинской стихотворной строки, или выпуклость фразы у Льва Толстого.
А между тем все учебники стилистики и риторики, все правила ораторского искусства будут лишь мертвым схематическим отвлечением от живой сущности художественного слова; как точно так же и все попытки найти правила гармонии образов обречены на формализм; пресловутая гармония при попытках выразить ее членораздельно окажется иной раз нарушающей правила школьной эстетики; но более всего поразит нас собрание сверкающих мыслей и изложение их в строгой системе; такая система мыслей, пресловутая идеология, покажется чисто банальной, как бы высоко ни ценили мы гения; часто мы сердимся на художника слова, когда он, покидая язык образов, начинает говорить с нами на языке отвлеченных понятий; и наоборот, излишняя образность нас сердит в философе-специалисте. Невыразимый ни в мысли, ни в образе, ни в стилистическом правиле гений окажется не проявленным, а лишь предугадываемым единством формы и содержания; и у Гете мы найдем тяжелые строки, и у него нас встретит и неясность изложения, и банальность мысли; дело не в мысли, не в красочности и не в соблюдении правил словесности, а в чем-то ином, живом, но непонятном, до конца ускользающем от определений художественном гении. И потому-то самые ясные образы великих художников слова не так-то ясны, как и прозрачное денное небо над нами, если пристально вглядываться в него, окажется вовсе не голубым, а синим, темным, бездонным.
И потому-то творения гениев при всей их кристальной ясности подчас заставляют нас тревожно вглядываться в их глубину и определять эту ясность как ясность глубины, но… и только; дно этой глубины ускользает.