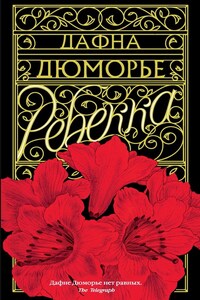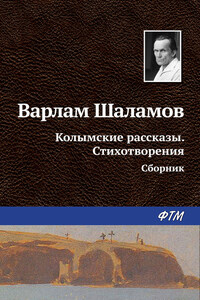Был конец ноября, день стоял пасмурный и холодный. Погода за ночь испортилась: переменившийся ветер принес с собой серые, гранитные тучи и моросящий дождь, и, хотя было чуть больше двух часов пополудни, бледный зимний вечер уже опустился на холмы, окутав их туманом. К четырем, наверное, совсем стемнеет. Сырость и холод пробирались внутрь дилижанса, несмотря на плотно закрытые окна. Кожаные сиденья стали влажными на ощупь, а в крыше, наверное, была щель, потому что время от времени тонкие струйки дождя просачивались внутрь, оставляя на обивке темно-синие пятна, похожие на чернильные кляксы. Ветер налетал порывами, сотрясая дилижанс на поворотах дороги, а на открытых местах дул с такой силой, что тот весь дрожал и раскачивался, шатаясь между высокими колесами, словно пьяница.
Кучер, по уши закутанный в пальто, чуть не пополам согнулся на козлах, тщетно пытаясь укрыться от непогоды, подставляя ветру плечи, а понурые лошади угрюмо тащились по дороге; исхлестанные ветром и дождем, они уже не реагировали на удары кнута, который время от времени щелкал у них над головами, едва поворачиваясь в онемевших пальцах возницы.
Колеса скрипели и стонали, утопая в дорожных колеях, и швыряли в окна жидкую грязь; она смешивалась со струйками дождя и безнадежно скрывала от взгляда окружающую местность.
Немногочисленные пассажиры, сбившиеся в кучку, чтобы согреться, дружно вскрикнули, когда одна колдобина оказалась особенно глубокой, а старик, не прекращавший брюзжать с тех самых пор, как подсел в Труро, в ярости поднялся с места. Повозившись с оконной рамой, он с грохотом опустил ее, и на него и на остальных пассажиров тут же обрушился поток дождя. Старик высунул голову наружу и заорал на кучера высоким срывающимся голосом, обзывая того мошенником и убийцей: он, дескать, всех их уморит прежде, чем они доберутся до Бодмина, если будет гнать очертя голову; все пассажиры и так чуть живы, и уж сам-то он, конечно, никогда больше не сядет в дилижанс.
Неизвестно, услышал его кучер или нет. Скорее всего, поток ругательств унесло ветром, потому что старик, подождав с минуту и достаточно выстудив внутренность дилижанса, поднял окно, уселся обратно в свой угол, обернул колени пледом и заворчал себе в бороду.
Его соседка, общительная краснощекая женщина в синем плаще, тяжело и сочувственно вздохнула и, подмигнув неизвестно кому и кивнув в сторону старика, наверное, в двадцатый уже раз сказала, что такой ненастной ночи и не припомнит, а она видывала всякое; хотя стоит ли удивляться, это вам не лето. Потом, порывшись в глубинах большой корзины, женщина вытащила огромный кусок пирога и вонзила в него крепкие белые зубы.
Мэри Йеллан сидела в противоположном углу, как раз там, где струйка дождя просачивалась сквозь щель в крыше. Холодные капли падали ей на плечо, и она стряхивала их нервным движением пальцев.
Девушка сидела, подперев подбородок ладонями и уставившись в заляпанное грязью и дождем окно в отчаянной надежде, что луч света все же пробьется сквозь тяжелое серое одеяло и ясное небо, еще вчера синевшее над Хелфордом, покажется хоть на миг, предвещая удачу.
Всего лишь сорок миль отделяли Мэри от места, где она прожила целых двадцать три года, а надежда в сердце девушки уже угасала, и присущая ей отважная стойкость, которая так поддерживала ее во время долгой болезни и смерти матери, поколебалась под первым натиском дождя и пронизывающего ветра.
Места кругом были чужие, что уже само по себе повергало в уныние. Глядя сквозь мутное окно кареты, Мэри видела мир, совсем не похожий на тот, от которого ее отделял всего один день пути. Как теперь далеки от нее светлые воды Хелфорда, его зеленые холмы и веселые долины, белые домики на берегу! Может быть, ей не суждено увидеть их снова! В Хелфорде дожди были ласковые, они шумели в листве многочисленных деревьев и терялись в сочной траве, соединяясь в ручьи и мелкие речушки, которые вливались в широкую реку, питали землю, а та в благодарность дарила цветы.
Хлещущий, безжалостный дождь заливал окна кареты и уходил в каменистую, бесплодную почву. Здесь почти не было деревьев, за исключением одного или двух, тянущих голые ветви навстречу всем четырем ветрам, согнутых и скрученных веками непогоды; и так черны были они от времени и бури, что даже если бы весна дохнула на них, то ни одна почка не осмелилась бы развернуться в лист из страха, что ее убьет запоздалый мороз. Убогая земля, без живых изгородей и лугов, страна камней, черного вереска и чахлого ракитника.
Здесь, верно, не бывает ни весны, ни осени, подумала Мэри; только суровая зима, как сегодня, или сухой палящий жар середины лета, и ни одной тенистой долины, и трава жухнет и рыжеет уже в мае. Окрестности сделались серыми от непогоды. И даже люди на дороге и в деревнях изменились. В Хелстоне, где Мэри села в первый дилижанс, она ступала по знакомой земле. Так много детских воспоминаний было связано с Хелстоном. Девушка вспоминала еженедельные поездки на рынок с отцом в былые времена и ту стойкость, с которой мать потом, когда его не стало, заняла место мужа, разъезжая в повозке зимой и летом, как это делал он, с курами, яйцами и маслом; как сама она сидела рядом, крепко держа корзину с нее саму величиной, положив подбородок на ручку. Народ в Хелстоне был дружелюбный, к Йелланам в городке относились с почтением; после смерти мужа вдове пришлось несладко, а ведь мало кто из женщин смог бы жить, как она, – с маленьким ребенком на руках управляться с фермой, даже не помышляя о новом замужестве. Был один фермер в Манаккане, который посватался бы к ней, если бы осмелился, и еще один, в Гвике, выше по реке, но по глазам вдовы было понятно, что никто ей не нужен, ибо она душой и телом принадлежит мужчине, который умер. Непосильный труд в конце концов взял свое, ведь мать Мэри не берегла себя. И хотя все семнадцать лет вдовства она нещадно понукала и погоняла себя, на последнее испытание сил уже не хватило, и воля к жизни покинула ее.