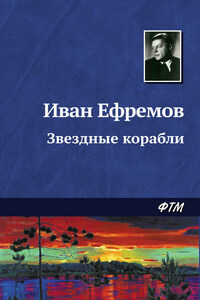Ударь мужчину, помоги женщине, и вряд ли ты поступишь несправедливо.
Одно из многих изречений рядового Мельванея
«Невыразимые» давали бал. Они взяли у артиллеристов семифунтовик, увили его лаврами, натерли пол для танцев, так что он стал гладким, как лед, приготовили такой ужин, какого никто никогда не едал, и у дверей комнаты поставили двух часовых, поручив им держать подносы с программами. Мой друг, рядовой Мельваней, был одним из этих часовых, так как он принадлежал к числу самых рослых малых в полку. В разгаре танцев часовых освободили, и Мельваней пошел помогать сержанту, который заведовал ужином. Не знаю, сержант ли отдал, или Мельваней взял, одно верно: во время ужина я увидел, что на крыше моей кареты сидят Мельваней и рядовой Орзирис с большим куском окорока, с караваем хлеба и с половиной страсбургского пирога, а также с двумя бутылками шампанского. Поднимаясь на карету, я услыхал, как Мельваней говорил:
– Еще хорошо, что танцы бывают реже, чем дежурства, не то, честное слово, Орзирис, сынок мой, я не был бы, как говорится, лучшей жемчужиной в короне полка, напротив, осрамил бы его.
– Передай-ка мне любимое зелье полковника, – сказал Орзирис. – Но почему ты клянешь свою порцию? Это пенистое пойло – недурная штука.
– Ах ты, невежественный дикарь: пойло! Шампанское мы пьем, пойми – шампанское! И я совсем не против него. Вся беда в истории с маленькими кусочками черной кожи. Знаю, что из-за них я к утру буду совсем болен. И что это такое?
– Гусиная печенка, – сказал я, поднимаясь на крышу кареты. Я знал, что сидеть с Мельванеем интереснее, чем танцевать.
– Гусиная печенка? Вот что! – сказал Мельваней. – Право, я думаю, следовало бы вырезать печенку из сержанта Меллинса. В жаркие дни и холодные ночи у него уйма печенки. Целые бочки! И он говорит: «Сегодня я весь печенка», – и посылает меня на десять дней в карцер за самый крошечный стаканчик, который когда-либо вливал в себя хороший солдат.
– Мельванея взяли под арест, когда он вздумал купаться во рву форта, – пояснил мне Орзирис. – Он находил, что, на взгляд всякого богобоязненного человека, в барракских бочонках для воды слишком много пива. Еще тебе повезло, Мельваней, ты легко отделался.
– Ты находишь? А мне сдается, что со мной поступили жестоко в сравнении с тем, что я делал прежде, в те дни, когда мои глаза видели яснее, чем теперь. Боже ты мой, сержант пришпилил меня! Это меня-то, который спас репутацию человека получше его. Он поступил гнусно, и это доказательство власти зла.
– Бросьте толки о власти зла, – сказал я. – Чью репутацию вы спасли?
– Можно пожалеть, что не свою собственную, но я вечно хлопотал о других больше, чем о себе. И всегда я был такой, всегда совал нос в чужие дела. Ну, слушайте. – Он устроился поудобнее. – Я вам расскажу. Понятно, без настоящих фамилий, так как в дело была замешана офицерская леди; не скажу я вам также, где произошло дело; место может выдать человека.
– Ладно, – лениво протянул Орзирис, – видимо, будет запутанная история.
– Во времена оны, как говорится в книжках, я был рекрутом.
– Да неужели? – насмешливо сказал Орзирис. – Это удивительно!
– Орзирис, – произнес Мельваней, – попробуй еще раз открыть рот… и я, извините, сэр, я схвачу тебя за штаны и швырну!
– Хорошо, молчок! – ответил Орзирис. – Так что же случилось, когда ты был новобранцем?
– Я служил лучше, чем ты, но не в том дело. Скоро я возмужал, ах, каким же молодцом был я пятнадцать лет тому назад! Меня звали «Бык Мельваней», и, ей-ей, я нравился женщинам, они так и льнули ко мне. Честное слово!.. Орзирис, эй ты, малыш, чего скалишь зубы? Не веришь, что ли?
– Нет, нет, – сказал Орзирис, – но я уже слыхал это.
В ответ на его дерзость Мельваней только высокомерно махнул рукой и продолжал:
– Офицеры полка, в котором я служил, были истыми офицерами; все – благородные люди, воспитанные, с такими хорошими манерами, каких теперь не увидишь. Все были хороши, кроме одного капитана. Скверная выправка, слабый голос, некрепкие ноги… А эти три вещи – признаки плохого служаки. Запомни это, Орзирис, мой сынок!
У нашего полковника была дочь; одна из тех овечек, которые точно шепчут: «Ах, подними меня и неси на руках, не то я умру». Такие создания – настоящая добыча для людей, вроде капитана; и он вечно вертелся около нее, ухаживал за ней, хотя полковник то и дело повторял дочке: «Пожалуйста, милочка, подальше от этого животного». Тем не менее отец не решался отослать ее куда-нибудь подальше от греха: он давно овдовел, и кроме нее у него не было никого.
– Погодите, Мельваней, – остановил я рассказчика, – как вы узнали все это?
– Как? – презрительно крякнув, сказал Мельваней. – Правда, я, стоя на дежурстве, обращаюсь в деревянный чурбан, но разве из-за этого я должен, как слепой, держать… держать канделябр в руке, пока вы собираете карты, разве не смею видеть и чувствовать? Нет, я вижу все. На дежурстве, когда мои настоящие глаза смотрят в одну точку, у меня на спине, в башмаках и в коротких волосах на затылке сидят другие глаза. Откуда я знаю? Поверьте слову, сэр: в полку всегда известно все и еще больше, чем все; в противном случае, к чему годился бы сержант офицерской столовой? Зачем также жена этого сержанта купала бы майорского ребенка? Одним словом, вот что: капитан имел плохую выправку, отчаянно плохую, и, в первый раз окинув его взглядом, я сказал себе: «Ах ты, бентамский петушок из милиции! Петушок из Госпорта! (Он явился к нам из Портсмута.) Придется тебе пообрезать гребешки; это я-то думаю, и, по милости Божьей, Теренс Мельваней обстрижет их».
Вот он принялся кружить около дочери полковника, мурлыкал, напевал и выделывал всякие шуры-муры, а эта невинная бедняжка смотрела на него, точь-в-точь как комиссариатский бык на полкового повара. У него были скверненькие, торчащие черненькие усишки, и каждое-то слово он закручивал и изворачивал. Ох! Это был хитрый человек и по природе лгун. Есть прирожденные лгуны. Вот и он был таким. Я знал, что он по уши в долгу; кроме того, знал я о нем еще много разных разностей, но из уважения к вам, сэр, умолчу о них. Часть известного мне знал и полковник; он не хотел иметь с ним дела, и, судя по тому, что произошло позже, капитан подозревал это.
Вот раз офицеры и офицерские леди, вероятно со скуки, а то они не затеяли бы ничего подобного, решили устроить любительский театр. Вы много раз видели эти зрелища, сэр, и знаете, что это плохая забава для тех, кто сидит на заднем ряду и колотит ногами о пол, ради чести своего полка. Мне приказали быть за сценой, тащить это, поднимать то. Дело было нетрудное и даже приятное, благодаря пиву и девушке, одевавшей офицерских леди… (Она умерла в Аггра, двенадцать лет тому назад.) Они играли штуку, которая называется «Обрученные»; вы, может, слышали о ней? И дочь полковника представляла горничную. А капитан был малым по имени Брум, Сприт Брум звали его в пьесе. Тогда-то я и увидел то, чего не замечал раньше, а именно, что он не джентльмен. Они слишком много бывали вместе, эти-то двое! И все шушукались, прячась за декорациями, которые я менял; кое-что я слышал, и мне хотелось, до смерти хотелось, обрезать ему гребешок. Он все шептался с ней, уговаривал ее согласиться на какой-то скверный план; она пыталась противиться; только видно было, что воли у нее немного. Удивляюсь, право, что в те дни мои уши не выросли на целый ярд, я так усердно слушал! Но я делал вид, что ничего не замечаю; поднимал одну вещь, опускал другую; все как полагалось, и, думая, что я не могу слышать, офицерские леди говорили между собой: «Какой услужливый молодой человек этот капрал Мельваней». Я был тогда капралом. После меня понизили, но все равно, в свое время я был капралом.