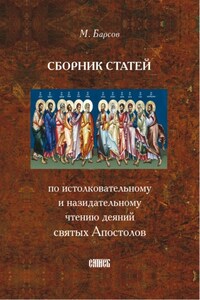* * *
Давай, давай, не мешкай, выходи, пока звонят колокола в груди и боль еще металлом не застыла. Пока живой, умеющий прощать, запутавшийся в людях и вещах, державший фронт и нападавший с тыла, пока нескладный, главный, угловой, пока дырявишь небо головой и под дождем внезапным затихаешь, пойдем со мной – без карты, без пути, пойдем, пока нам некуда идти, – за будущим.
За счастьем.
За стихами.
* * *
Варя рисует марево, зарево заоконное, озеро, грозы, зеркало темной воды у пристани. Варя уже не мамина – дикая, потаенная, странница чужеземная, искорка серебристая. Варя идет на улицу, лес открывает двери ей, древняя сила ведает, но до поры не скажется. Мама не налюбуется, не верит глазам, но верует, Варя играет с ведьмами в тайны свои бумажные. Ведьмы ей красят волосы темным закатным золотом, в озере духи водные пальцев ее касаются, лес говорит с ней голосом – шелестом, свистом, совами, ночи ее свободные становятся предсказанием.
Варя рисует верное, вечное, невозможное, мама любовь баюкает под городскими крышами.
Дочь открывает первое – нежное, осторожное.
Женщину будит юную.
Солнце встречает рыжее.
* * *
Вот город, как насыщенный раствор, вбирает нас и в бар, и в разговор, сгущает краски, повышает градус. Случайный взгляд, нечаянная радость, мы рядом – это лучшая награда, в которую не верим до сих пор. Но верь не верь, а просто посмотри: заводят джаз, и музыка внутри такое вытворяет – боже правый. И провода, и кованые рамы, и своды, и кирпич, и запах пряный единый отчеканивают ритм. За стенами, в просветах мостовых – брусчатка, вечер, шпили и кресты на куполах ноябрьских соборов, и фонари, и блики светофоров, и дождь со снегом – дружеские споры сезонов, не желающих остыть.
Иди и пей, и пой, и обретай свои ответы и ключи от тайн, читай о том, что скоро воплотится.
Вино играет, истина искрится,
пока мы открываем не страницу,
но будущее
с чистого листа.
* * *
Расходимся кругами по воде, глазами дышим – рядом и нигде, изъятые из стен мироустройства. Идем на веслах в зарево костра, и каждая другой теперь сестра, в нас геккельберифинское геройство. На финских землях, в гротах финских кирх, мы хатифнатты, странники реки, мы Тофсла, Вифсла и немножко Мюмла, мы даже Морра – если комары, и время замерзает до поры, а нас святой отогревает юмор. Мы прохохочем черную беду, ты позови, и я к тебе приду, неси смешные бабушкины чашки. Мы будем пить волшебные чаи, нырять с мостков, дурачиться, чудить, мы новых музык сердцу сочиним.
И наша смерть не выйдет к нам из чащи.
* * *
И когда-нибудь, черт возьми,
мы отправимся в Сан-Франциско.
Автостопом.
С рюкзаками.
В потертых кедах.
У нас не спросят имен, мы не будем в списках
Тех, кто остался в гетто.
Где-то в гетто, аллилуйя его обескровленным мостовым,
Его решеткам на окнах, его комендантскому часу,
Аллилуйя всем оставшимся, всем живым.
Аллилуйя всем погибшим и всем причастным.
Когда-нибудь, черт возьми, мы выйдем на этот мост
И, взявшись за руки, пересечем залив.
Апостол Павел заденет рюкзак крылом,
Апостол Петр будет ласков и молчалив.
* * *
Мы сидим на самом краю, пригревшись, мы у Него в руках. Мы бежали через ноябрь к марту и обогнули шар. На двоих у нас есть беспокойный компас и с десяток дорожных карт. У меня – очки и смешная шапка, у тебя – разноцветный шарф. Нет ни общего прошлого, ни историй, душащих по ночам, нет терпения, чтобы найти причину, по которой мы тут сидим. Я умею с тобой проходить сквозь стены, чтобы потом молчать, потому что, когда замолкаешь, слышишь сердце в твоей груди.
Соль на губах проступает морем, море покорно ждет. Если бежать босиком по пляжу, там остается след то ли влюбленного зверя, то ли ловца, что за ним идет – без отдыха, через ноябрь к марту по этой большой земле.
Вот прибой прорастает сквозь дикий камень, вот мы стоим на нем.
Рыбы плывут по морским дорогам, словно осколки льдин.
Я говорила с ветреным мартом и с пасмурным ноябрем.
Теперь я буду молчать и слушать сердце в твоей груди.
* * *
Привычка видеть тебя подобна привычке верить твоим словам. Ты проявляешься так подробно, что можно даже не рисовать. Мы состоим из звонков и писем, людьми надежно окружены. И каждый дерзок и независим от огнестрельных и ножевых. Живем деталями и штрихами, как будто время не смотрит вслед. Я так умею тебя стихами, что разрешается не взрослеть, смеяться громче, у самых кромок стоять на цыпочках – высота! Моих колец и татуировок, не прикоснувшись, не сосчитать. И наша осень – мороз по коже, такая резкость и глубина. Мы так отчаянно не похожи, что бьется символом каждый знак. Тебя почувствовать, петься, длиться – теплом в мерцающей глубине…
Когда я переверну страницу, не останавливайся во мне.
* * *
Слишком яростно, слишком ясно начинаешь по ней скучать. Неслучайная сопричастность обостряется по ночам. Мысли множатся на виденья, поворачиваются вспять. Продолжение совпадений, не дающих спокойно спать. Это карма. Духовный голод по запретности общих тем. Ночь за ночью огромный город перемешивает людей. Люди встретились. Стрелки встали. Не смотри туда, не смотри. Там змея начинает танец, поднимается изнутри, позвоночник послушной флейтой отвечает на этот зов…
Слишком жаркое нынче лето. Время – спицами в колесо. Слишком яростно, слишком ясно. Ты услышан – считай, спасен. Неслучайная сопричастность, как всегда, объясняет все.
Просветление – лишь сноровка вырываться из круга дней.
Бодхисаттва, татуировкой проступающий на спине.
* * *
Ивот она, красивая, как бес, за хвост поймав и аэроэкспресс, и самолет, готовящийся к взлету, откидывает кресло у окна, включает shuffle, трогает журнал, но не берет – довольно переплета. Ее побег невыносимо прост: от пробок, брендов, мудаков и звезд, на деле предстающих мудаками, от гениев всех рангов и мастей, поющих песни, тянущих в постель, от Кастанед, Коэльо, Мураками, от переплетов книжных и живых, от огнестрельных, рваных, ножевых, от нищеты и пошлого достатка, ее побег сквозь зиму, за рубеж, без багажа, сомнения, рублей, без памяти, а значит, без оглядки.
Погонь не будет, рации молчат, у звездного десанта тихий час, включают свет, подходит стюардесса. Вода без газа, яблочный и плед, святой огонь блуждает по земле, крыло в граните облачного пресса.
Она сидит, красивая, как бес, и вспоминает, есть ли интерес искать билеты в точку невозврата. Посадка через несколько минут, в Париже дождь, прибытия не ждут, ждут там, в Москве.
Но ей туда не надо.
* * *
Ав 5 утра он мой и ни луча не уступает призрачным неспящим, бездомным, дворникам, впередсмотрящим трамваям, что ревнуют, грохоча. Он выдан мне, в огромности своей не скрывший тайн и требующий знака, он царственная серая собака и господин, принадлежащий ей, он темная вода в руке моста, сквозь пальцы утекающая в вечность, он в 5 утра нежней и человечней, чем может показаться красота. Он чаячий, нечаянный, как взмах не облака, но радуги крылатой, он золотые солнечные латы, которые дозволено снимать.