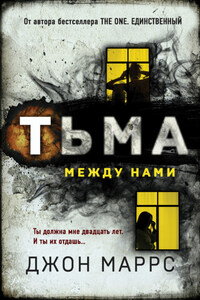Солнце ярко светит, когда Шут отправляется в путь. Все его пожитки – в котомке, которая висит на посохе, переброшенном через плечо; в руке он держит белую розу. Его взгляд прикован к горизонту, и этот беззаботный скиталец не подозревает, что он вот-вот перешагнет через край пропасти…
Лалабелль Рок делает еще один глоток розового «Пепто-Бисмоля»[1]. Одна капелька падает на лацкан белого банного халата и тут же впитывается в махровую ткань. Лалабелль не замечает этого, а если и замечает, то никак не реагирует.
Вместо этого она облизывает губы и устремляет открытый и серьезный взгляд в мою сторону.
– Я могу рассказать тебе о моем новом фильме? Это полный провал. Просто катастрофа.
Не знаю, надо ли мне кивнуть. У меня не возникло впечатления, что Лалабелль спрашивает моего разрешения. Она не продолжает и ждет, слегка склонив голову набок.
Секунду мы смотрим друг на друга, потом я уступаю.
– Рассказывай.
Лалабелль прихорашивается, плотнее завязывая на голове белый шелковый шарф. Однако одному светлому локону все же удается сбежать, и он покачивается в опасной близости от ее губ, на которых еще не высох лечебный напиток со вкусом клубники.
– В общем, – начинает она, подавшись вперед, – когда я подписывала контракт, все это казалось мне верным решением. Спенсер, мой агент, говорил, что это нужно хватать и бежать. Хватать и бежать. Умно, правда?
Я что-то бормочу в знак согласия.
– В общем, это адаптация. Чего-то артхаусного. Шведского, или польского, или итальянского, или еще чьего-то. Черно-белого. С субтитрами. И все такое. Режиссер-постановщик отличный, как ты понимаешь, один из лучших… В общем, ему всегда это нравилось, еще с тех пор, когда он был голодным студентом в киношколе. «Медея», так он называется. Он о матери.
– Это твоя роль? – спрашиваю я.
Мы сидим на балконе, и нас разделяет большой стеклянный стол. Когда солнце выходит из-за облаков, стол превращается в диск ослепительного света. В эти короткие мгновения я чувствую себя так, будто мы с ней беседуем над поверхностью луны.
– Естественно, – отвечает Лалабелль, явно немного обиженная. – В общем, у этой матери есть дети.
– Само собой.
– Двое детей. Два маленьких мальчика. И отец, естественно. В общем, все они живут в этом большом старом доме. В сельской местности. Там высокая влажность и частые туманы. Наверное, в Англии – там всегда сыро…
– Они счастливы? – спрашиваю я.
– О, наверное, – говорит Лалабелль, отпивая из стакана. – Наверняка. Но потом начинается война. Или она уже давно идет… Тут не совсем ясно. В общем, отец вынужден уехать. Он, видите ли, солдат. Он уезжает, и мать остается одна.
– С детьми?
– Естественно. Проходят годы, они так и живут в этом жутком доме, все новости о войне узнают по радио, ну, из передач, что были в те давние времена… А эта мать, она дико напугана, у нее паранойя, и она совсем одна в этом старом большом доме…
– С детьми, – напоминаю я ей, и она нетерпеливо взмахивает ручкой с сияющими лаком ногтями.
– Да-да, это же ясно. Но она боится. Шарахается от теней. Она все думает, что будет, если на них нападут? А что, если враг найдет их? Что он сделает? И вот спустя годы и годы она слышит стук в дверь…
Лалабелль замолкает и многозначительно смотрит на меня.
Через секунду я понимаю, что она ждет от меня реакции.
– Это муж? – спрашиваю я.
– Ну, – говорит она и слегка качает головой, – да. Но предполагается, что ты об этом не знаешь. Это может быть кто угодно. Короче, она думает, что это враги, они пришли убить ее и сотворить страшные вещи над малышками. И она убивает их.
– Кого? – спрашиваю я. – Врагов?
– Нет… детей, – говорит Лалабелль, приправляя свою интонацию ужасом. – Она убивает своих детей, чтобы враги не смогли причинить им вред. А потом, когда оба уже мертвы, она вооружается кухонным ножом и идет открывать. И как ты думаешь, кто по ту сторону двери?
Она изгибает бровь, которая бледной полосой поднимается над краем солнцезащитных очков. Мгновение мы тупо смотрим друг на друга.
– Муж? – говорю я.
– Муж! – Она восторженно хлопает в ладоши. – И на этом конец.
Я размышляю.
– Гм, – говорю я. – И все это в черно-белом?
– Оригинал был черно-белым, – говорит Лалабелль, пожимая плечами. – А наша версия – нет. В нашей версии очень красивое освещение. Красное, голубое и так далее. Ты видела «Суспирию»[2]?
– Нет.
– Я тоже, но мне говорили, что это точная копия. Мы не собирались делать что-то вроде дрянных студийных ремейков, где всё в пастельных, приглушенных тонах и выглядит безопасно. Мы хотели – ну, режиссер хотел, – чтобы все было в крови. Кровоточило. Именно это слово он и использовал. Неукоснительно.
– А в оригинале ему было мало крови? – спрашиваю я.
От солнца у меня начинает болеть голова. Я не привыкла к головным болям. Я их не люблю.
На Лалабелль Рок большие солнцезащитные очки. Она может спокойно смотреть на меня, мне же приходится щуриться, чтобы разглядеть розовое пятнышко на белом халате, в который укутано ее тело, и ухоженные сады, что раскинулись позади нее, лазурь плавательного бассейна вдали и безупречно подстриженные изгороди. Здесь, за городом, очень красиво. Пейзаж мог бы стать отличной съемочной площадкой или фоном для картины – настолько здесь все идеально. Наверняка вокруг установлен забор, чтобы сохранять эту красоту нетронутой, но я его не вижу.
– В оригинале… – Она замолкает и постукивает ногтем цвета электрик по своему клыку. – Там многое только подразумевалось. Жестокость. Ответные выстрелы, элегантные брызги крови на стене. Детская рука, медленно роняющая игрушечный грузовик. Ну и так далее. Мы не хотели так делать. Мы хотели как можно больше реальности. Мы хотели создать нечто настолько ужасное, чтобы у зрителя возникло желание отвернуться. Но не получилось.
– Вы показывали убийства?
– Во всех жутких подробностях. Это действительно было отвратительно. И оригинально. Каждый ребенок умирал двадцать минут. Море крови. Что, естественно, раздражало, потому что, во-первых, остаются пятна, а во-вторых, она была съедобной, и детишки, естественно, слизывали ее, хотя предполагалось, что они мертвы.
По лицу Лалабелль проходит тень.
– Никогда не работай с детьми, – мрачно советует она мне. – Они думают, что все это понарошку. Они лишают актерскую игру всякого достоинства.
– Не буду, – обещаю ей я.
– Как бы то ни было, – со вздохом говорит она, – это должно было стать шедевром. Моим шансом на признание. Чтобы не играть жен, или робких секретарш, или тусовщиц. Чтобы не сниматься в этой высокобюджетной чуши с захватом движения, зеленым экраном и CGI