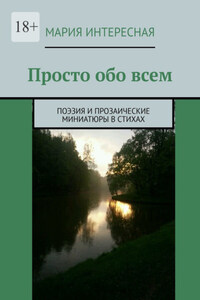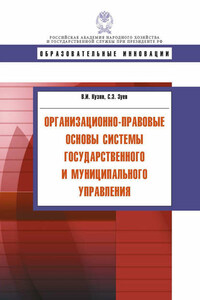Саша бузит.
Только что пришёл с прогулки.
Ввалился и – свалился, плюхнулся на свой стульчик в прихожей.
Сидит и не даёт себя раздевать-разувать. Никому.
Буянит: кричит и яростно отбивается, так что старенький, мамин ещё, детский стульчик ходит под ним ходуном и, скрипя и скребясь о стену и о паркет, взывает к ним то возмущённо, то жалобно. Размахивая во все стороны ногами, обутыми в серые с чёрными колошами валенки, насколько хватает сил и ног (а только на это их сейчас и хватает), Саша лупит, колотит по полу. Получается здорово.
«Слава богу, – думают взрослые, – что это для паркета совершенно безвредно». Но зато громко и гулко. А если совсем близко подойти, то ещё и больно.
Метод устрашения действует безотказно. Никто уже – ни мама, ни папа, ни бабушка – не знает, с какого боку к этому ребёнку подступиться, как к нему хотя бы приблизиться, не то что валенки с ног стянуть. Да и штаны хорошо бы – ведь по колено… да какое там! – по самую попу мокрые. А попробуй-ка сними, хоть они и на молнии: толстые, с «грудкой», на бретельках – это же комбинезон, кафандл кацманафта! Или даже валадаза (водолаза). Еле успели, пока шёл к стулу, расстегнуть и стащить с мальчика шубу и вязаную шапку-шлем. Тяжёлые от воды варежки сами упали с Сашиных рук ещё в подъезде.
Щёки красные, глаза горят, волосы на голове совершенно мокрые и на макушке всклокоченные.
Нагулялся, укатался до такой степени, что сам уже не знает, чего хочет:
– Ни катю́ дамо́й!
– Ку́сать ни катю́!
– Ни катю́ путя́та! (купаться)
– Ни катю́ пать! (спать)
А дальше уже просто:
– А-а-а-а-а-а!
А взрослым, ой, как непросто… «О-о-о-о-о…» – только и остаётся сказать.
– А ну-ка… А вот я сейчас спою ему эту «страшную песню», про серого волчка, – неожиданно находится дедушка.
Все в недоумении: «Какой ещё „волчок“? Ну ты, дедушка, даёшь… Ребёнок голодный!..» – однако сразу же соглашаются, потому как другие, уже опробованные, педагогические (и даже те, что «не очень») приёмы, а также совсем уже не педагогичные хитрости (и даже угрозы) не дали абсолютно никакого результата. Не считая разве того, что Сашины крики стали ещё громче, а удары ног о пол – ещё ожесточённее. И тоже громче.
Дедушка садится перед Сашей на корточки (калоши почему-то сразу же перестают колошматить), протягивает к нему руки и низким голосом тихо заводит:
– Баю-баюшки-баю…
Саша без единого звука… встаёт со стульчика… с большим трудом… (кацманафт – гравитация!) делает два шага навстречу деду и… – падает (сила гравитации особенно велика в этот момент!) в его объятия.
Дедушка большой, тёплый и добрый, и байковая рубашка в клеточку на нём сухая; а Саша маленький, горячий и мокрый. И очень устал.
Продолжая (уже без слов) петь, а вернее мычать, свой «утробно-загробный» мотив, дед с Сашей на руках осторожно поднимается и, медленно покачивая его, идёт по коридору в сторону детской.
Мама бежит за ними на цыпочках, догоняет и знаками объясняет, что неплохо бы снять с ребёнка тяжёлые валенки: у того ноги уже болтаются, как у тряпичной куклы, и валенки в калошах – клоц-клоц, бум-бум – стукаются друг о друга. Ещё, чего доброго, разбудят…
– Уйди. Потом снимешь, – одним лицом, бровями, говорит дед. Руки-то заняты, а голосом он продолжает всё так же «страшно» петь.