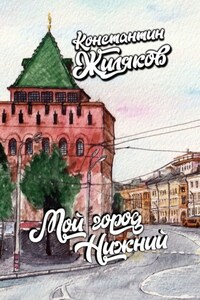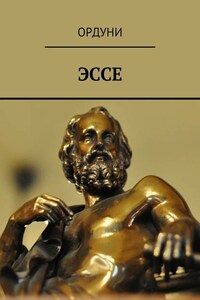За окнами середина февраля. Вьюга свирепствует вторые сутки. Снег залепил на стёклах узоры, лишив берлогу единственного украшения. Жаль. Раньше любил смотреть, как улочки Парижа превращаются в белую сказку. Теперь только вспоминаю, доверяясь воображению. Будь помоложе, наверняка бы услышал, как ветер стучится в дверь, но через несколько месяцев столетие, а хороший слух так долго не живёт. Сижу в тишине; даже костёр в камине кажется безмолвным. Довольно уныло ждать того, что в молодости казалось фантастикой. Курить трубку давно бросил, хорошее вино берегу для круглой даты, так что скуку разбавить нечем. Впрочем, угощать некого. Последний, с кем распил бы эту бутылку, старинный друг Глен Уркхарт, отправился в лучший мир так давно, что количество этих лет не вмещается в голове. Я простил, ведь он был самым близким, самым преданным… в этом мире. Помню, как мы смеялись над шаманом чероки, который не стал со мной разговаривать, небрежно высказав, что проживу я больше ста лет и зря к нему пришёл; что ничего значительного в моей жизни не произойдёт… Да, часто вспоминал эту шутку. Вспоминаю и сейчас, но не только её, а всё, чем заполнились эти годы. И вот, что подумалось. Может, стоит перенести старую память на бумагу? Пускай не всё, столько бумаги не найдётся на складе типографии, но кое-что особенное, о чём не знают люди. Начать прямо с рождения, хотя ничего особенного в нём не было. Родился седьмым по счёту, с намотанной пуповиной на шее. Мать часто говорила, что родила висельника. Шутила, на самом деле любила безмерно. Возможно потому, что был последним и к пяти годам остался единственным. О судьбах братьев и сестёр знаю мало, родители не любили рассказывать. Воспоминания о детях причиняли им боль, особенно матери, а отца, пока мать была жива, я не замечал. Чем занимался этот человек мать умышленно не рассказывала, веря, что, забравшись в память, слова плодоносят в виде судьбы. О папаше стало известно, когда он остался моим единственным кормильцем…
Недолго думая, он назвал меня Пьером. Мать терпела ровно месяц, который провела без сна, не выпуская из рук возмущённое дитя. На тридцатое утро мучений поставила отца перед фактом, что имя к сыну не прижилось и назвала по-своему. Жизнь потекла, как по маслу. Через пару недель она настояла, чтобы к имени, принадлежавшему её древнему предку, прибавилась девичья фамилия. Отец буйствовал целый час: разбил пару стульев, графин – случайно. Под конец горячки, помянув старое имя штофом первоклассного шнапса, сдулся. Смиренно придя в церковь, сделать запись в метрическую книгу, на вопрос священника – как зовут младенца – он, скрипя зубами, передал записку жены. Тот, выпучив глаза, прочитал: «Францтролль Глюк». Метрическая книга не могла вынести святотатства, слипшиеся страницы долго не поддавались, обложка дурно запахла. Священник пыхтел, надувая щёки, пока отец не вспомнил, что к записке прилагается бутыль абсента. Поскольку убойные аргументы просятся в душу, старый бездельник бросил паясничать. Святотатство было исполнено с любовью, запись хранится по сей день.
Мать постоянно твердила: «Это имя, сынок, принесёт удачу». По её мнению, оно обладает волшебным даром – находить друзей и выявлять недругов. Для первых я всегда буду Францем, вторые, как бы ни старались, первую часть имени произнести не смогут. Уж не знаю, откуда она взяла, но контрольно-избирательный механизм никогда не подводил.
Старший брат отца, известный печатник по имени Пьер Фурнье, в честь которого я кричал на руках матери целый месяц, владел небольшой типографией, там и провёл папаша всё моё детство. Мать одна меня воспитывала, обучив всему, что знала сама. Скромный багаж знаний выгодно отличал десятилетнего мальчишку от сверстников. В то время, как они зарабатывали хлеб с грыжей в пекарнях, столярных цехах, кузницах и шахтах, мне доверяли разносить газеты по адресам. Новости узнавал первым, но чужие судьбы пока не трогали, были проблемы поважней. Равнодушное время превратилось в циферблат из проповедей, по которым отсчитывались недели к далёкой юности. Уличным мальчишкам нравилось исключительно второе имя, а я радовался уже тому, что детство не навсегда.
Когда дяди не стало, типография с имуществом перешли к отцу. Преумножить наследство он не сумел, споткнувшись о традиционный набор причин, в списке которых каким-то чудом оказался и я. Повезло, у других отцов выпивка и женщины забирали всё, но мой умудрился не тронуть средства, отведенные на образование сына. Когда деньги закончились, он уговорил знакомого боцмана взять юнгу на торговое корыто, перевозившее хлам для богатых, которое на целых пять лет стало мне семьёй. На том корыте я впервые услышал своё первое имя. Лёд тронулся. Через пять лет, кое-что понимая в морском деле, умея считать, писать и читать, дочитался до того, что, отметив двадцатилетие, уплыл в Америку вершить великие дела. Пожалуй, эти двадцать лет можно отослать к чероки, вспоминать там почти нечего, а вот то, что началось потом, до сих пор мешает спать. На войне время течёт по-другому. Вчерашний мальчишка быстро взрослел и через два года пехотного ада навсегда вычеркнул из головы книжные идеалы, приведшие в Америку. Возможно, это была освободительная война, но я видел лишь то, к чему с детства питал отвращение. Тем не менее, данные щенком клятвы не давали поступать иначе, как продолжать сражаться за чью-то мнимую свободу. Недавно вновь пролились реки крови в гражданской войне по тем же причинам, что и столетие назад – они не могли договориться мирно. Спустя два года, я попал на французский линейный корабль матросом, на котором закончил войну капитаном. Не обижусь, если кто-то не поверит, таким взлётом не может похвастаться ни один адмирал, но это правда.
Двести лет назад, с именем, режущим слух, и опытом, я мог бы стать карибской легендой. Капитан Францтролль наводил бы ужас на фаршированные золотом галеоны. Но мир переживал эпоху просвещения, задвинув романтику на страницы скучных романов. Спрос на героизм резко упал. Победители не чаяли, как избавиться от героев за недавние подвиги, предложив, по-хорошему, разойтись по домам, заняться делом. Перебравшись через Атлантику на одном из кораблей, что звались «Ветрами свободы», мы с Гленом Уркхартом вернулись домой. Он принял приглашение погостить некоторое время в Париже, пока не определится с желаниями потратить заработанную на войне сумму. Мои же цели были довольно просты: восстановить типографию и поступить в Сорбонну. Отец был серьёзно болен, не мог помочь ни франком, ни делом, но, надо отдать должное, сохранил печатный станок, перевезя по частям в дом. Пришлось ломать стены, приглашать специалистов, чтобы собрали агрегат, на котором сплющенное войной мышление призналось в бессилии. Дальше пошла суета вступления в наследство, открытие типографии, поступление в университет, учёба. В общем, привезенных из Америки денег едва хватило начать новую жизнь. Мой друг, познакомившись с настроением парижан, высказал мнение, что дух Америки добрался и сюда. Недалёк тот день, когда и нашу корону выкинут из страны. Крутясь, как белка в колесе телеги, я не прислушивался. Телега еле двигалась, слишком тяжёлый груз вычеркнул из расписания сначала весёлые застолья, затем слабый пол. Мы попрощались, когда сошёл снег, и больше не виделись. В девяносто третьем получил от него письмо. Оно-то и толкнуло в путешествие, которое ждут бумага, перо и чернила.