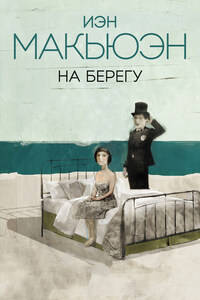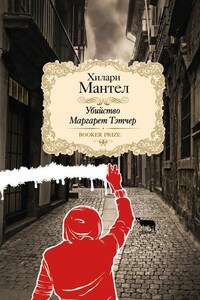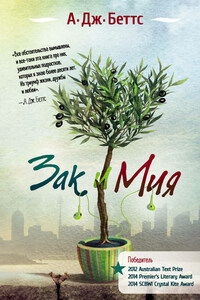Это были воспоминания во время бессонницы, не сон. Снова урок игры на фортепьяно – покрытый оранжевой плиткой пол, окно под потолком, новый инструмент в пустой комнатушке рядом с лазаретом. Ему было одиннадцать лет, и он разучивал первую прелюдию Баха из первого тома «Хорошо темперированного клавира» в упрощенной версии, но он об этом не имел ни малейшего понятия. Он не знал, известная это пьеса или не очень. Он не ведал, ни когда, ни где она была написана. Он даже не понимал, что кто-то когда-то удосужился ее сочинить. Музыка просто существовала в нотах, в виде упражнения, темная, словно сосновый лес зимой, исключительно для него, как его личный лабиринт холодной печали. Она его не отпускала.
Учительница сидела рядом с ним на высокой скамье. Круглолицая, с прямой спиной, надушенная, строгая. Ее красота скрывалась под маской уже знакомых повадок. Она никогда не хмурилась и не улыбалась. Кое-кто из мальчишек считал ее чокнутой, но он в этом сомневался.
Он опять ошибся в том же самом месте, где всегда ошибался, и она придвинулась к нему чуть ближе, чтобы указать на его ошибку. Ее теплый локоть уперся ему в плечо, и ее кисти с наманикюренными ногтями застыли над его коленками. Ему вдруг стало щекотно, и пробежавшая по ногам предательская волна мурашек отвлекла его от музыки.
– Послушай. Это как легкое журчание.
Но когда она заиграла, он не услыхал никакого легкого журчания. Его обдала удушливая и оглушающая волна ее духов. Аромат был приторный, округлый, тяжелый, словно речной окатыш, стукнувшийся о его мысли. Три года спустя он узнал, что это за запах: розовая вода.
– Попробуй еще раз. – Она чуть повысила голос, и в нем зазвучали строгие нотки. У нее был музыкальный слух, а у него нет. Он знал, что мысленно она витала где-то далеко и что ее утомляло его безразличие – для нее он был просто учеником пансиона с пальцами, измазанными чернилами. Эти пальцы тупо нажимали на беззвучные клавиши. Он сразу заметил трудное место в нотах, прежде чем добрался до него, это произошло до того, как он ошибся: ошибка неумолимо надвигалась на него, широко, по-матерински, раскрыв ему объятия, готовая подхватить его, это всегда была та же самая ошибка, коварно поджидавшая его и не обещавшая ему нежного поцелуя. И он снова сфальшивил. Его большой палец жил собственной жизнью.
Они вдвоем слушали, как фальшивые ноты растворились в шипящей тишине.
– Извините, – прошептал он себе под нос.
Выразив свое неудовольствие, она коротко выдохнула через ноздри, как будто фыркнула, – он не раз слышал такой звук. Ее пальцы легли ему на ляжку как раз под окоемом его серых шортиков и впились в кожу. Он знал, что вечером там возникнет синячок. Ее холодные пальцы поползли выше под шорты, туда, где эластичные края трусов обнимали кожу. Он сполз со скамьи и, краснея, застыл перед фортепьяно.
– Сядь! Начни сначала!
Ее строгость вмиг стерла то, что случилось. Все прошло, как не было, и он даже усомнился в точности своего воспоминания об этом. Он так же сомневался всякий раз после подобных обескураживающих ситуаций со взрослыми. Они никогда не говорили, что им от тебя надо. Они скрывали от тебя пределы твоего неведения. То, что случилось, что бы это ни было, произошло по его вине, а неповиновение было чуждо его натуре. Поэтому он послушно сел, поднял голову и всмотрелся в суровые шеренги застывших на странице нотных знаков и опять заиграл, еще более неуверенно, чем раньше. Никакого журчания тут быть не могло – в этом лесу уж точно! И скоро он опять приблизился к тому самому трудному месту. Катастрофа была неминуема, и это ощущение подтвердило сей факт, когда его дурацкий большой палец сдвинулся вниз там, где ему следовало оставаться на месте. Он остановился. В его ушах звонко звучали фальшивые ноты, словно его имя, громко произнесенное вслух. Двумя пальцами она зажала ему подбородок и повернула к себе его лицо. Даже в ее дыхании он уловил парфюмерный аромат.
Не сводя с него взгляда, она взяла с крышки пианино длинную линейку. Он не мог позволить ей ударить себя линейкой, но, сползая со скамьи, не заметил движения ее руки. Он щелкнула его по коленке ребром линейки, не полотном, и это было больно! Он шагнул назад.
– Делай, что я говорю, сядь!
Его коленка горела, но он не стал тереть ушибленное место ладонью, пока нет. Он в последний раз посмотрел на ее красивое лицо, на блузку в обтяжку, с высоким воротником и с перламутровыми пуговицами, на расходящиеся диагонально складки на ткани, туго натянутой ее грудью, и на ее спокойный немигающий взгляд.
Выбежав от нее, он бросился бежать мимо нескончаемой колоннады месяцев и бежал, бежал, пока ему не исполнилось тринадцать и не сгустилась ночь. Много месяцев она возникала в его грезах перед сном. Но на сей раз все было по-другому, ощущения были болезненные, холодные иголки кололи в животе – это, думал он, то самое, что люди называют экстазом. Все было ему в новинку, и хорошее, и плохое, но все это было его, собственное. Никогда в жизни он не испытывал подобного восторга, осознавая, что миновал точку невозврата. Слишком поздно, вернуться назад нельзя, но какая ему разница? Удивленный, он впервые кончил себе в руку. А когда пришел в себя, сел в темноте, встал с кровати и отправился в туалет общежития, в «сортир», чтобы получше рассмотреть там бледную слизь на своей ладони, на детской еще ладони.
И тут его воспоминания сменились сновидениями. Он приблизился сквозь сияющую бездну к краю горного пика, откуда открывался вид на далекий океан, подобный тому, что увидал толстый Кортес в стихотворении, которое весь класс в виде наказания переписывал двадцать пять раз. Море кишело извивающимися существами размером меньше головастиков, их были мириады и мириады в водных просторах, тянувшихся к искривленному горизонту. Подойдя еще ближе, он заметил пловца, упрямо плывущего среди мельтешащих существ, распихивая своих собратьев и проникая в гладкие розовые туннели, опережая прочих, которые в изнеможении отплывали прочь и уступали ему дорогу. Наконец он в одиночестве доплыл до сияющего диска, величественного, как солнце, и медленно вращавшегося по часовой стрелке, умиротворенно и со знанием дела, словно равнодушно дожидаясь его. Если это был не он, то, должно быть, кто-то другой. И когда он вошел внутрь сквозь плотные кроваво-красные занавеси, издалека послышался вой, а затем перед его глазами ярко вспыхнуло плачущее лицо ребенка.