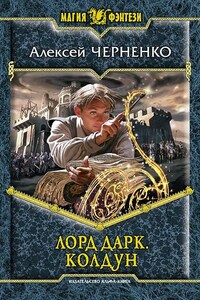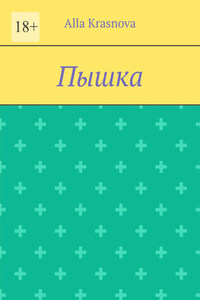Я знаю, что у меня есть право быть с другим. Но другого я не любила бы, даже если бы он относился ко мне лучше, чем мой муж.
Муж бывал груб, часто невыносимо холоден. Он лгал. Но я не уходила, и не только ради детей. За эти тридцать три года вместе мы стали неразделимы. Муж иногда забывал об этом (нравилось, видимо, чувствовать себя похотливым самцом), но это не меняло главного: он так же не мог без меня, как и я без него, хоть наша жизнь и стала пресной.
Не могла я просто взять и выбросить его из своей жизни. Это было бы равносильно тому, чтобы лишиться верхней конечности: проснуться утром, достать руки из-под одеяла – чтобы опереться на одну, а вторую потянуть к будильнику, но вдруг обнаружить, что опереться не на что. Если одна из рук начинает отказывать, мы же её не отрубаем – мы верим, что она вновь станет здоровой.
За те годы, что мы провели с мужем вместе, ритм его дыхания стал моим ритмом, его привычки стали моими привычками. Я начала есть на завтрак варёное яйцо всмятку такой же консистенции, как любил он, и обязательно с тостами, обжаренными в сливочном масле. А он как-то признавался, что начал проверять двери, уходя из дома. Раньше смеялся надо мной, а потом сам стал так делать: закрывать дверь, вытаскивать ключ, а затем обязательно наклонять ручку вниз и дёргать дверь несколько раз. После завтрака я привыкла вместе с грязной посудой убирать со стола свежую газету, которую он читал. Каждое утро, перед выходом из дома, я отодвигала к стене его тапочки, которые он постоянно оставлял посреди комнаты. Я уже не могла без этих мелочей. Поначалу они раздражали, а потом стали неотъемлемой частью моей жизни.
Когда муж не возвращался домой, конечно, я думала о том, где он и с кем. Но мне не удавалось уснуть не столько от этих мыслей, сколько от того, что я не ощущала его дыхание за моей спиной. Если он не ночевал дома, мой день не клеился, потому что утром, застилая кровать, я не улавливала его запах на подушке.
Лежу как бревно. Ничего не движется. Не ощущаю ни рук, ни ног, ни спины, ни члена.
А может какое-то движение всё-таки есть? Боковым зрением иногда замечаю какие-то тени, но ничего не чувствую.
Сказать ни слова не могу, только мычу.
Шея не поворачивается, посмотреть в сторону не могу.
Глаза хотя бы открываются, а если клонит в сон – закрываются. Хоть это работает.
Но, может, было бы лучше, если б и глаза не открывались. Не видел бы, как она, жена, суетится вокруг меня – такое ощущение, что круглосуточно. Возится с моей тушей. Вливает в меня ложкой еду, которую я даже не чувствую. Зачем меня кормить, на что мне тратить энергию, лежу как увалень?
И вообще, к чему такая жизнь? Это и не жизнь то, собственно. Так я наказан. Это страшнее смерти. Специально мне это: чтобы мучился. Заслужил.
Только ей то это за что? Терпела меня больше тридцати лет. А теперь еще и обхаживай, дерьмо убирай, из ложечки корми.
Не спит, наверное. Всё худее и худее лицо, морщин стало больше. Некрасивая.
Брось ты меня, не мучай и сама не мучайся! Зачем кормишь? Без еды сдохну быстрее, тебе же легче будет, дура ты.
Да она не понимает, я же мычу только, вот идиот.
Муж уснул, сижу рядом. Не спала всю ночь: он всё стонал, вставала – делала компрессы на лоб, чтобы снять жар. Теперь клонит в сон. Надо бы поспать, хоть немного, пока и он спит.
Хорошо, что не нужно завтра идти на работу. Отпуск дали, но, я вижу, коллеги считают, что я должна была бросить его после такого. А подруги так и говорят. Хотя какие они после таких советов подруги?! Как же я могу бросить его, если он даже в туалет сам сходить не может? Лежачего бить – как-то не по-людски.
Да, мой муж ошибся. Да, это не в первый раз. Но он достаточно дорог для меня, чтобы не бросать его в беде.
Я знаю, он сам винит себя сейчас сильнее, чем кто-либо другой, а даже прощения попросить не может. Речь для него теперь недоступна. Для него теперь ничего не доступно. Он как птица в клетке, а я не в состоянии эту клетку открыть. Только время знает, когда он снова начнёт ходить, говорить, ощущать. Если вообще начнёт.
Теперь я часто вспоминаю один эпизод из детства.
Мой отец был орнитологом, работал в центре кольцевания птиц. Я редко приходила к нему на работу – мне было жалко птичек. Это сейчас я понимаю важность занятия отца, а тогда считала, что люди не в праве покушаться на свободу пернатых (пусть даже на несколько минут, необходимых для проведения измерений).
Во время одного моего визита к отцу в сети орнитологов попал красноголовый королёк. Он был оливково-зелёный с бронзовой спинкой и беловатым брюшком, в оранжевой шапочке из перьев, с крохотными глазками, обведёнными черными полосками. Красноголовый королёк – одна из самых маленьких птиц в наших краях. Но несмотря на то, что длина его всего 9 см, а весит он грамм 6, это настоящая перелётная птица. Он пролетает через всю Европу и добирается даже до Марокко и Туниса – девочкой я очень гордилась этим фактом, как будто была к нему причастна.
Со слезами на глазах следила я за тем, как папа проводил свои измерения. Больше всего меня злила процедура взвешивания. Чтобы определить точный вес королька, его опрокидывали вниз головой в стаканчик для взвешивания – так, что наружу торчали только лапки и хвостик. Мне казалось, это унизительно для такого подвижного создания.
В тот день, окончив измерения, отец позволил мне самой выпустить королька на волю. Я аккуратно взяла птичку и протянула руку к окну. Крохотное сердце королька бешено билось, пульсируя о стенки моей ладони. Я прошептала ему извинения за папу, потом поцеловала оранжевую шапочку из оперения и раскрыла ладонь. Королёк стремительно выпорхнул из моих рук и исчез среди деревьев, но всё ещё слышно было его тонкий постепенно повышающийся свист. А я вытирала мокрое от слёз лицо и радовалась освобождению птицы из временной клетки.
Опять пришла кормить.
А вот не буду я есть! Нужно плотно смыкать губы при попытках влить в меня еду. Вот так. И не просунешь ты ложку между зубами.