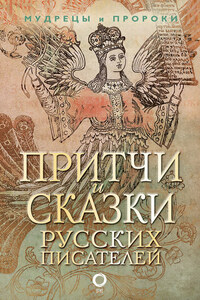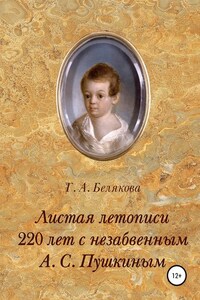«Что-то неведомое творилось на земле»…
Глава из книги «Заметки читателя»[1]
Странный писатель Николай Зарудин, тревожный, путаный, темный даже в самых как будто ясных и выверено чистых порывах. У него путаница, положим, не расчетливая, но в том-то и штука, что он не останавливается на ее перепутьях, озадаченно почесывая, по нашему русскому обыкновению, затылок: вон чего я нагородил! – напротив, он всегда в смутном и воинственном возбуждении и, неуловимый в существе своего писательского образа, рисуется воображению каким-то варягом, который под сенью рюрикова мифа просочился из саговых древностей, обжился у нас, прижился, а как вздумал писать, так и сказался вдруг гостем. В предисловии к сборнику зарудинской прозы «В народном лесу» (1970) Валентина Дынник пишет: «Имя Николая Зарудина в тридцатые годы хорошо было известно любителям литературы. Но сейчас оно сохранилось в памяти только у самых старших поколений советских читателей. Они с грустной и нежной улыбкой порою вспоминают его стихи и прозу, от которых веяло какой-то особенной свежестью мысли и чувства, словно его творчество – порыв весеннего ветра, несущего с собой все запахи обновленной земли». Похоже, эта грустная и нежная улыбка старшего поколения толкает Дынник на женские подвиги трепетного и трогательного объяснения с покойным писателем. Тот в очерке «Старина Арбат», изображая возвращение вчерашних красноармейцев в Москву времен нэпа, пугался и пугал: «…мы не знали, куда девать свои огромные красные лапы», а она доверительно сообщает: «Николай Зарудин писал эти строки своей тонкой, бледной рукой. И писатель Зарудин не был неуклюж. Писатель Зарудин хорошо одевался – настолько хорошо, что одежда его была как-то незаметна, не бросалась в глаза, не отвлекала внимания от его красивого лица, от его изящного облика». Достигает взор очарованной исследовательницы и его «тонких городских ног, облеченных в щеголеватые клетчатые носки», – это о герое-журналисте рассказа «Спящая красавица», но Дынник без колебаний называет рассказ строго автобиографическим.
Итак, уже в семидесятые годы прошлого столетия имя Зарудина хранилось в памяти «только у самых старших поколений советских читателей». А почему? Писателю нечего было и рассчитывать на большее? И где теперь те «самые старшие поколения»? Мы вспоминаем о них «с грустной и нежной улыбкой». А кто вспоминает о писателе Николае Николаевиче Зарудине?
Или вот еще смотрите, какая штука. Как мы сообщили выше, в предисловии к сборнику прозы Неверова критик Страхов уверенно заявил, что его «Ташкент – город хлебный» народ принял и полюбил навсегда, а тут, в предисловии к сборнику Зарудина, критик Дынник прямо начинает с элегического и смиренного, не грозного, не обвиняющего совсем, заверения, что ни прозаических, ни поэтических творения этого самого Зарудина никто уже практически не помнит. Разве что старцы некие да старушки, но ясно же Дынник, что недолго осталось им тешить себя воспоминаниями. А периода, между прочим, оба критика касаются одного: Страхов писал в 1973 году, Дынник в 1970-м, – стало быть, с опорой на один и тот же народ высказывали критики свои соображения, с заглядыванием в одни и те же недра народной памяти. И результаты должны были, в общем-то, получиться схожие, если только, конечно, исследовательницу в момент ее эксперимента с этим «аппаратом» не вспугнуло что-то и она там, в таинственной глубине, не приметила краешком глаз что-нибудь ее ужаснувшее, а ее коллега, напротив, не испытал нечто вроде опьянения и восторга, повредившего научной достоверности его опыта. Но в одном случае народу приписывается хорошее, добротное, вечное запоминание писателя, а в другом – быстрое и как бы невинное, почему-то, ну, скажем, само собой, случившееся забвение. Нам скажут: так ведь о разных писателях говорится, и так оно и бывает, что одного писателя запоминают навсегда, надолго хотя бы, а другого быстро и прочно забывают. На это возражаем: так быть не должно, когда речь идет о равных по силам писателях. Более того, мы, исходя из нынешней ситуации и опираясь на собственное представление о народной памяти, все-таки позволим себе высказать предположение, что и тогдашним, семидесятых годов, поколениям не слишком-то внятны были эти писатели, Неверов и Зарудин, а в указанных предисловиях происходит тот фокус, что Страхов решил взглянуть на дело оптимистически и, пожалуй, даже выдал желаемое за действительное, а Дынник пожелала некоторым образом пустить слезу о бренности всего земного. И не в несопоставимости достоинств этих писателей дело, а в том, что критики, написавшие о них вступительное слово, прислушивались и присматривались не к истинному положению дел, а к собственным пожеланиям, и общего между этими критиками то, что оба говорили первое, что им взбрело на ум. Если же допустить, что в те годы, когда писали Страхов и Дынник, у Зарудина не было уже никакой славы, а у Неверова была слава почти даже великая, поскольку народ, как уверяет Страхов, полюбил его повесть навсегда, то с Зарудиным нам теперь может быть все понятно, в том смысле, что с ним все обстоит по-прежнему, зато в отношении Неверова у нас могут в естественном порядке возникнуть определенные недоумения, а именно вопрос, куда же подевалась эта его будто бы надежная слава и как же это народ разлюбил, даже до забвения, его повесть.
Но это так, между прочим, замечание по случаю. Николай Николаевич Зарудин родился в 1899 году, в Пятигорске, в семье горного инженера Николая Эдуардовича Эйхельмана, потомка обрусевших немцев, который в 1914 году едва началась война, из патриотических побуждений переменил фамилию на Зарудин. В изданной в 2005 году томским издательством книге «Погаснет жизнь, но я останусь» ее автор Глеб Глинка, некогда советский писатель, а после Великой Отечественной – эмигрант, сообщает, что «бытовой уклад в доме Зарудиных, несмотря на протест против своего германского происхождения, носил явные следы старых немецких традиций». Н. Н. Зарудин, выбившись в литераторы, жил сыто и весело. «Он не любил говорить о гонорарах, но никогда не испытывал нужды в деньгах. Во время продовольственного кризиса 1930-32 годов из всех перевальцев он первым был прикреплен к самому лучшему закрытому распределителю «Литер А». И еще так об одном из лучших писателей литературного содружества «Перевал» пишет бывший перевалец: «…не имея законченного образования и не утруждая себя изучением каких бы то ни было источников, кроме своих непосредственных впечатлений, так же, как Пильняк, питался преимущественно багажом всевозможных энциклопедических словарей. Он насыщал свои рассказы и особенно свой роман («Тридцать ночей на винограднике» – М. Л.) неожиданной и легковесной эрудицией, что, разумеется, отяжеляло и засоряло местами действительно яркую и свежую прозу». «Из всего Достоевского, и то лишь по настоянию друзей, Зарудин прочел «Село Степанчиково». Был в полном восторге, но дальше дело не подвинулось».