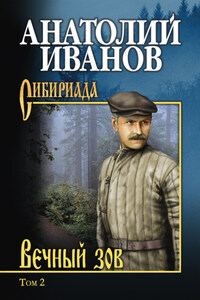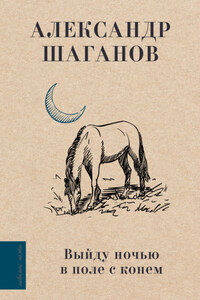В один из июньских дней 1908 года в следственной камере при Томской жандармерии находились двое – сам следователь господин Лахновский, человек лет тридцати пяти, с жирным тупым носом, и старший надзиратель Косоротов, мужчина неопрятной наружности, с выпирающими челюстями.
Следователь, в нижней рубашке, за рабочим столом пил чай. Было жарко, его форменный китель болтался на спинке стула. Косоротов прислуживал, через руку у него висело полотенце, и вообще он походил на трактирного полового.
Лахновский поставил пустую чашку на поднос и сказал:
– Слышал я, братец, о твоем рапорте начальству. В Александровский централ просишься?
– Мечта, ваше благородие. С малых, юных лет.
– Мечта – это хорошо. Мечта у человека исполняться должна.
– И вы, ваше благородие, подсобить обещали, ежели отличусь.
– Да-да, я походатайствую. Жалко тебя отпускать, но за усердие и преданность надо поощрять. – Лахновский отодвинул поднос с чайной посудой. – Ну-с, давай опять с твоих новониколаевских земляков начнем… Как тебе удалось выследить их?
– А я, Арнольд Михалыч, стал быть, в иллюзион шел. А когда иду по улице – всегда смотрю: что, где, как? Гляжу – с переулка впереди меня вывернулись двое. И пошли, пошли, скоренько так. Что-то, думаю, не так… А тут один оглянулся. Меня и вдарило: Полипов Петька, земляк! А с ним кто же? Так и есть, Антошка Савельев! Обои в девятьсот пятом – девятьсот шестом годах еще в Новониколаевской тюрьме сидели, когда я там надзирателем служил. Что, думаю, в Томске им надо? Я свисток…
– Ладно, молодец. Веди по одному.
Лахновский накинул китель, закурил. Дымок от папиросы потек на улицу через открытую форточку зарешеченного окошка.
Минуты через полторы Косоротов втолкнул из коридора Антона Савельева. Антон был в помятом пиджаке, из-под фуражки свешивался белесый чуб. Светлые глаза глядели на следователя угрюмо и враждебно.
Лахновский, попыхивая папиросой, подошел, усмехнулся, кивнул на стол, где лежали две серые тощие папки:
– Я запросил из Новониколаевского жандармского отделения ваши с Полиповым личные дела. Ну-с, и теперь будете запираться?
* * *
Антону Савельеву около месяца назад исполнилось восемнадцать. И в этот день была свадьба, он женился на Лизе Захаровой, единственной дочери новониколаевского социалиста Никандра Захарова, погибшего в марте 1905 года при побеге из Александровского централа.
Родился и вырос Антон в деревушке Михайловке Шантарской волости, которая находилась верстах в полутораста от Новониколаевска. Его отец, Силантий Савельев, был, как говорили в Михайловке, «беднее поповой собаки». Что значило это выражение, Антон понять никогда не мог, потому что в Михайловке ни попа, ни церкви, а следовательно, «поповой собаки» не было.
Антон рос хулиганистым. Часто колотил меньших братьев – Федора и Ваньку, держал в жестоком страхе всех михайловских ребятишек. Каким бы вырос Антон – неизвестно, но весной 1904 года в Михайловку приехал из Новониколаевска младший брат Силантия, плотник Митрофан.
– Возьми-кось, Митрофан, Антошку хучь на время в город, а? – попросил его старший брат. – Можа, рукомеслу своему его обучишь. А то мы тут с маткой никак управы на него не найдем, спортится парнишка до края. С конокрадами вот, слышно, дружбу свел, в карты они его приучили играть.
В Новониколаевске Антону понравилось, но учиться плотницкому делу он не стал. Целыми днями болтался по улицам города, перезнакомился с городскими хулиганами, играл с ними в карты, наловчился обчищать карманы валявшихся у пивнушек мужиков, за что не раз бывал жестоко бит. Неожиданно все дела эти бросил, пристрастился ловить птиц в окрестных лесах, которых и стал продавать на рынке или менять на пряники сыну соседского лавочника Петьке Полипову. Сам Антон сладостей не любил – отдавал тонконогой Лизке, «дочке каторжника», как ее называли все вокруг.
Этой Лизке, худой, как скелет, с острыми коленками и длинными черными бровями девчонке, было лет четырнадцать. Она жила на той же улице, что и дядя Митрофан, мать ее, вечно кашляющая, видимо чахоточная, работала где-то на мыловаренном заводе. Антона Лизка заинтересовала именно тем, что была дочерью каторжника. «Интересно, за что ее отца в каторгу загнали? – думал Антон. – Зарезал, наверное, кого?»
Как-то он спросил об этом у сына дяди Митрофана – Григория. Высокий, жилистый, большеглазый, Григорий работал в паровозном депо кочегаром, от него пахло всегда дымом и сажей, но он был веселым человеком, часто брал с собой Антона на рыбалку и вообще относился к нему дружески, как к ровне.
– Правду человек захотел поискать – вот и упекли на каторгу, – сказал Григорий. Внимательно поглядел на Антона и добавил: – Он, отец ее, социалист.
– Что ж это такое – социалист?
– Революционер, значит.
– А что такое революционер?
Григорий рассмеялся, подмигнул почему-то Антону.
– Интересно? Значит, как-нибудь узнаешь. Всему свое время.
Вскоре Антон узнал, что и Григорий, и дядя Митрофан, и даже его жена Ульяна Федоровна тоже революционеры, хотя они это тщательно скрывали от него. А когда поняли, что Антону все известно, чуть не отправили его назад в Михайловку, к родителям. Особенно настаивала на этом тетя Ульяна. И его отправили бы, наверно, если бы не Григорий.
– Смотрю я на тебя, батя, и думаю: чего ты хочешь?! – схватился однажды Григорий со своим отцом. Взял со стола отобранную тетей Ульяной у Антона колоду карт, потряс ею в воздухе. – Ты хочешь, чтобы Антон и дальше шел по этой дорожке? А ведь чем дальше, тем оно глубже. Пойми, парень в таком возрасте, когда черт-те что хочется, небывалого чего-то! Так надо помочь ему!
Григорий, веселый, никогда не унывающий Григорий, который воспротивился отправлению Антона назад в Михайловку, в тот же день, буквально через полчаса, принимая на загородном полустанке от связного политическую литературу, был смертельно ранен жандармом, а вечером умер на руках Антона, сказав:
– Если пойдешь, Антон, правду искать, тебя ждут тюрьмы, каторги и, может быть, вот… такой конец… Пойдешь?
– Пойду.
– Не забоишься?
– Нет.
– И правильно…
– Я буду такой же, как ты!
– Я верю…
В тюрьме Антону впервые пришлось посидеть довольно скоро. И ему, и Лизе, и Петьке Полипову. Несмотря на то, что Петька был сыном довольно богатого лавочника.
С Петькой у Антона постепенно сложились дружеские отношения. Омрачало их дружбу только одно – оба незаметно как-то влюбились в Лизу. Чем покорила она Петьку, неизвестно, красивой Лизу назвать было нельзя. Красивыми были только ее глаза – зеленоватые, как речная вода, и вечно в них плескалось что-то беспокойное и живое. Антону же она понравилась своей отчаянной смелостью, хотя по ее виду заключить этого было нельзя. Нельзя-то нельзя, но тем не менее в свои четырнадцать-пятнадцать лет она не раз ездила в Томск, привозила оттуда запрещенную литературу и даже оружие.