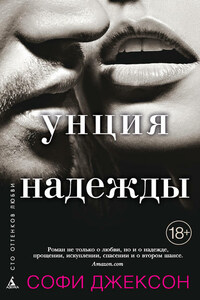Пролог. Буря среди ясного дня
Худощавый старик стоял, приподняв полог своего шатра, и рассеянно смотрел в летнюю северную ночь. Воздух в шатре был до того нагрет двумя медными жаровнями, что казался более плотным и буквально выталкивал старика в прохладу ночного сумрака. Однако крупные бисерины пота, покрывающие его абсолютно лысый череп, были не от этой жары.
Старик был тяжко болен. Его снедала жестокая лихорадка, подхваченная в этих гнилых землях, где леса похожи на болота, болота – на леса, а степи – на проплешины, что остаются на месте ярмарок, когда те съезжают. Старик ненавидел эти места, хотя сам родился всего в каких-нибудь ста двадцати лигах1 к юго-востоку отсюда, на тех же палатийских землях. Хотя на его родине всё было другим. Несмотря на когда-то кем-то проведённую границу, там уже скорее был Латион, нежели Палатий.
Старик не любил заглядывать далеко в будущее, но подозревал, что эта болезнь – смертельна. Похоже, из этого похода ему уже не вернуться…
Менее чем в миле2 к северу отсюда стоял Пиннор – теперь уж довольно небольшой городок Палатия, хотя каких-нибудь четверть века назад он был одним из крупнейших на северо-западном побережье. Но этот спад – ничто в сравнении с тем, что ждало Пиннор завтра утром, ибо весьма вероятно, что сегодня он доживал свою последнюю ночь…
Несмотря на то, что была почти полная луна, щедро источающая потоки серебристого цвета, стен города было, конечно, не разглядеть. Но старик словно чувствовал их близость. Он видел, будто наяву, эти серые замшелые стены из древнего камня, на которые спешно были наращены массивные деревянные щиты, чтобы хоть как-то поднять высоту этих стен, оказавшихся не столь хорошими защитниками для своих жителей. Старик точно знал высоту – восемнадцать футов3 камня и ещё восемь футов дерева. Завтра он будет сокрушать эти стены подобно древнему божеству.
Между ним и обречённым городом раскинулось множество костров, около которых сидели легионеры. Где-то люди сидели молча и сосредоточенно, но кое-где слышались выкрики и смех. Старик привык к этому – данная кампания была для него не первой. Он знал, что солдаты по-разному переживают близость грядущего боя. На кого-то нападал нервный смех без причины, кто-то замыкался в себе. Умирали в итоге и те, и другие.
Взгляд старика был расфокусирован (сам он бы определил это как «сфокусирован на бесконечности»), поэтому это множество костров превращалось для него в широкое огневееющее море, на отмелях которого копошились существа, почти столь же нелепые, как какие-нибудь тюлени. Свет этого моря почти затмевал и свет звёзд, и свет луны.
Лёгкий порыв нехолодного, в общем-то, ветерка заставил старика вздрогнуть и поплотнее запахнуть тёплый зимний плащ. Проклятая лихорадка – даже в докрасна натопленном коконе шатра он был вынужден не снимать этого плаща. Его трясло так, будто он находился сейчас не на побережье Серого моря, а где-то в ледяных пустошах Тайтана. И при всём этом тело и одежда его были мокрыми от отвратительного холодного пота.
Да, кажется, это действительно конец. Такими темпами через день-два он сляжет окончательно, а в этой глуши это будет равносильно смерти. Ему и сейчас нужно бы лежать, через силу втягивая в себя мерзкий горький настой, который приготовил полковой медикус. Но старик подозревал, что толку от этого настоя не больше, чем от его собственной мочи, да и лежать не было больше сил.
Эта кампания была далеко не первой в послужном списке умирающего старика. Казалось бы, он давно уже должен был привыкнуть к страданиям и боли, равно как и к тому, что зачастую источником этих боли и страданий являлся он сам. Собственно говоря, он и привык к этому уже давным-давно – слишком давно по человеческим меркам. Но сейчас в его воспалённом от лихорадки мозгу бурлили тяжёлые и чёрные мысли, и все они так или иначе были обращены к городку, находящемуся на том берегу моря огней. Возможно, это предчувствие смерти сделало его таким сентиментальным.
Старик не боялся умирать. По крайней мере, так ему казалось. Он прожил достаточно долго – может быть, даже слишком долго и неоправданно долго. В его жизнь вполне уместились бы десяток жизней обычных зажиточных буржуа, что ведут размеренный и спокойный образ жизни и умирают тихо и мирно в собственной постели, провожаемые к Белому Пути сдержанными подвываниями домашних.
Если же мерять его жизнь жизнями крепостных или тех из беднейших колонов, что почти не отличаются от крепостных, то этих жизней легко уместится и два десятка. Или вот жизнь этих легионеров, что коротают сейчас ночь у жарких костров… Их нелепо коротких жизней, оборванных вражеской стрелой или копьём на чужбине, непонятно во имя чего и для какой пользы самому убиенному, тоже поместится два, а то и два с половиной десятка. Многие из тех, кто не дожил ещё и до двадцати лет, завтра будут лежать ничком у размолотых стен Пиннора…
Несмотря на болезненную слабость, старик не смог сдержать кривой ухмылки. Он сам не понимал, какими неисповедимыми путями его мысли добрались до таких материй, которые ранее редко удостаивались его внимания. Всему виной треклятая болезнь, не иначе.
Старик неловко утёр щекочущие нос капли пота и с отвращением поглядел на влажную ладонь. Как это всё глупо – невольно подумалось ему. Быть одним из самых могущественных людей Паэтты, и умереть от той же болезни, что косит самых простых смертных! Алая лихорадка столь же непристрастна, как и сам Асс. Ей всё равно, кто перед ней. Будь ты король, легионер, или последний нищий из латионских трущоб. Будь ты сам великий маг Каладиус…
– Мессир, вы снова встали с постели без дозволения? – из задумчивости его вырвал противный, словно зубная боль, голос.
– А разве мне требуется ваше дозволение, мэтр Петан? – не скрывая неприязни, процедил Каладиус, вновь утирая проклятый пот.
– Иногда даже люди вроде вас должны подчиняться людям вроде меня, – не стушевался возникший из полутьмы ночи медикус. – Прошу вас, мессир, войдите внутрь и лягте ради Арионна! Завтра вам потребуются все силы, чтобы стереть в порошок этот мятежный Пиннор. Его величество очень рассчитывает на вас, и вы не можете его подвести.
– Что за лицемерие! – сварливо проворчал маг, но тем не менее позволил Петану ввести его внутрь и довести до шикарного, совсем не походного ложа. – Выходит, я должен вставать, если так нужно королю, но не могу встать, когда это надобно мне?
– Все мы – верные слуги его величества, мессир, – философски пожал плечами медикус. – Наши жизни в его руках, и он может распоряжаться ими по своему усмотрению.
– Если бы вы знали, мэтр, сколько раз лет этак сорок пять назад я видел, как наш король пачкает свои пелёнки!.. После такого мало у кого останется должный пиетет к его величеству, – неуклюжей, шаркающей походкой Каладиус добрался наконец до своего ложа.