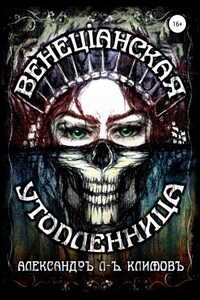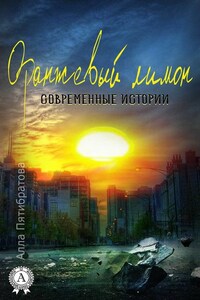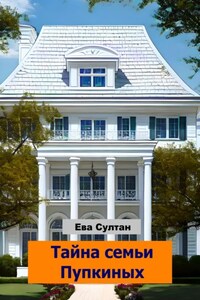Глава первая
Вниз и вверх!
Чёрное дно глаз. Бледные мазки щёк. Невеста в фамильных шелках.
Зубы сжимают страх…
Ведьма,
напротив,
с поникшим лицом.
Волосы длинные, тушью расписаны – тянутся нитями…
Вниз…
Грязной тиной,
сырой паутиной —
плетут век окно,
что разделило их,
но…
Холст обрывается, грубо обрезанный.
Старый рисунок, давно часом съеденный, – служит теперь ширмой в комнате, где слишком много бывает мужчин.
Тлеет на сердце невесты.
Ведьма горит с нею вместе.
Тень дует в пламя
– ночь обращает в день.
Тлен…
Ночь над Чемульпо разрывает девичий визг.
Корабли на приколе отвечают долгим гудком пожарной тревоги.
Лай откормленных собак будит корейский порт.
Цветник госпожи Дома Пионов покидает заведение в спешке. На землю сыплются лепестки пламени.
Аромат пожара приманивает жужжащих тележками мародёров.
Шлюхи с зарёванным гримом тянут копченый скарб на горбу. Под светом газового фонаря утончённые бутоны Дома Пионов распускаются придорожными сорняками.
Алая роза расцветает над городом – вспыхивает черепица на кровле пагоды.
Треск!
Жар.
Вой госпожи, потерявшей бордель, – лучший из худших в Азии. Злые шутки посетителей на всех европейских языках.
Звон каланчи.
Пожарная команда тянет брезентовые рукава и любуется заревом.
На землю ложится тень чернее вороньего крыла —
на крыше, объятой пламенем, стоит человек —
моряк российского военного флота —
Чай Готтофф,
тщетно пытается раскурить китайскую трубку от тлеющего рукава.
Он, очевидно, пьян, но факт игнорирует.
Ветер треплет его фигуру. Огненный шторм рисует ему кроваво-золотые крылья за спиной. Люцифер в аду грызёт ногти от зависти.
Моряк возносится одним шагом в пустоту, в которой отчётливо видит трап в небо, и летит вниз.
Девушки на земле визжат и широко открывают глаза, чтобы впитать каждый миг падения русского.
Земля свистит в лицо Готтоффу. Он всё ещё пытается раскурить трубку.
После полуденного ливня земля мягка, ровно настолько, чтобы моряк не умер от удара сразу.
– Живой! – слышит Готтофф свой собственный голос и через мгновение глохнет от хруста коленных суставов.
Зрители не спешат на помощь. Хозяйка указывает на Готтоффа полицейским как на поджигателя.
Готтофф на операционном столе. Керосиновые лампы качаются под потолком. Черти пляшут вокруг стола с ножами и пилами. Лица прячут за белыми масками. Один из них наклоняется к лицу моряка и медленно выцеживает по слогам:
– Служить хотите? Дальше? На флоте?
– Нет, – шепчет ему Готтофф, не имея сил лгать.
– Ну-с…
Доктор терзает ноги ланцетом, как чайка раненую нерпу клювом.
Чай хотел что-то спросить, но это что-то куда-то пропало… и он заглянул под стол в его поисках, но там было только море, бескрайнее синее-синее, чёрное море…
Готтофф уснул первый раз на этой неделе тихим сном.
Пять дней спустя Чай выслушал приказ о своей демобилизации, затем подтянул одеяло до подбородка и нашёл свои ноги там же, где и всегда, в бинтах и гипсе.
– Я в детстве тоже всегда коленки бил.
Унтер, зачитавший приказ, поддержал разговор:
– Хотели отнять ноги, да доктор молодой настоял оставить. Ты подумай, надо они тебе?
– Подумаю, – пообещал Готтофф.
Унтер наклонился и вытянул из-под койки, на которой лежал Чай, деревянную тачку без бортов, на низком ходу, с каучуковыми колёсами.
– Езжай домой. Более ты не ходок. Ноги у тебя теперь только для формы, содержания в них никакого. Сам потом попросишь отрезать, да только с тебя уже тогда меньше десяти рублей не возьмут.
Крейсер ушёл с утренним приливом в море.
Не занятые на вахте моряки стояли на корме, сплёвывали за борт и дразнили акул.
С пристани им отчаянно махал бескозыркой Готтофф. Моряки кричали ему вдохновляющие ругательства, а он утирал глаза и жевал губы, чтобы не расхохотаться от радости возвращения домой.
Необъятна Россия. А ещё более велика она, когда преодолеваешь её без копейки в кармане да на инвалидной тачке. Миллионы вшей успели вывести своё потомство, умереть и вновь родиться в складках бушлата моряка.
Родное Междуречье – город N. Старинные бейшлоты сдерживают пять рек, как обручальные кольца блудливые пальцы. Город в ладони Водяного – живёт посреди почерченной реками низины.
От воды в город по утрам заходит туман, залезает детишкам под одеяло и сводит животики уличным холодом. Детишки кутаются в одеяло и в школу идти не хотят.
Вотчина встретила Готтоффа негодующе. Его никто не ждал, а он явился.
Невеста уже давно променяла белую фату на чёрное платье вдовы и законно спала на печи с его младшим братом.
Демобилизованному моряку показали первенца, сладко спящего в люльке, выдали пятак на водку и пригрозили топором, если он, такой дурак, ещё раз завернёт к родному дому.
Чай пятак взял. Невесту проклял шёпотом, чтобы, не дай бог, не услышала. Брату ткнул дулю в физиономию и долго-долго так её держал, а потом быстро-быстро покатил свою тележку прочь. С его уходом всем стало легче дышать в доме, а ребёнок разорался, как сглазили.
Тележка тарахтела и подпрыгивала на булыжниках мостовой, проваливалась в вымытые дождями ямы, облаивалась злыми псами и, в конце концов, грозилась рассыпаться в щепы, только бы не возвращаться обратно в Корею.
Старый город. Торговые ряды. Собор. Сквер. Берёзы белые…
Оркестр в кованой беседке играл мелодию, не вызывавшую желания вальсировать барышню, зато идеально подходившую к пьянству или драке.
Чай пил мелкими глотками содержимое фанфурика и выбирал противника себе по росту. Кроме таксы жены почтмейстера, подходящих спарринг-партнёров не находилось.
– Позвольте!
Сапоги городового (постового полицейского, стоящего на пересечении дорог памятником тишины и порядка и выглядывающего на четыре стороны своих коллег в точно такой же позе, за тем же самым занятием) преградили обзор Готтоффу. Сам полицейский возвышался над моряком восклицательным знаком. Глазами, усами и золотым зубом требовал паспорт.
В начищенных детским трудом голенищах сапог отражалось карикатурное изображение Чая. Городовой аккуратно отодвинул ногой от себя тележку с калекой и стал читать паспорт.
– В городском саду не положено попрошайничать! – внушал постовой, разглаживая усы. – Здесь господа изволят прогуливать благородных животных, а ты у них между ног болтаешься…
Полицейский осёкся, перечитывая одно и то же слово в казённой бумаге. Сначала он стал явно шевелить губами. Затем читал слово по слогам, помогая себе, как указкой, указательным пальцем, и наконец, сорвал с головы фуражку, рванул ворот мундира и всхлипнул. Тележка с моряком подпрыгнула в воздух на целый локоть. Это городовой бухнулся на колени перед моряком:
– Прости Христа ради! Прости!
Тут же собралась толпа зевак. Постовой мгновенно встал, наглухо застегнулся, одним взглядом по сторонам выжег все воспоминания о свое секундной слабости у окружающих. Но как пуговица, не желавшая более лезть в петлицу, а оборвавшаяся, упала долу, так и голос городового сорвался: