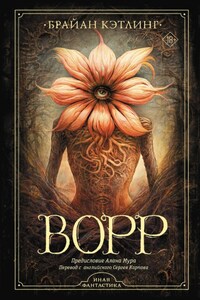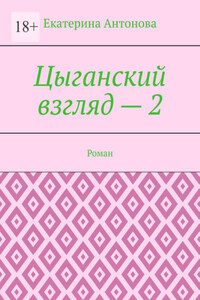Брайан Кэтлинг – человек многих призваний. У Кэтлинга-поэта на фоне творческого ландшафта конца двадцатого века мрачно поблескивающим обелиском возвышается его выдающийся «Камень преткновения» (The Stumbling Block). Кэтлинг-перформер – явление стихийное и солидное, но в то же время граничащее с некоей алхимией, а Кэтлинг-художник, автор скрупулезных миниатюр циклопов, воплощает жуткие тотемные фигуры из своего личного пространства сна. У Кэтлинга-писателя в дикой и страстной повести «Бобби Шило» (Bobby Awl) чувствуется грубый, телесный шаманизм в воскрешении мертвецов по архивным фрагментам и забытым гипсовым посмертным маскам.
Все эти поприща, однако же, подчинены тому, что в первую очередь Кэтлинг – скульптор. Его поразительное произведение на месте бывшей плахи лондонского Тауэра – подушечка с аккуратным углублением, отлитая из стекла такого раскаленного, что оно потребовало бережного остужения в течение года, по градусу в день, – демонстрирует сочетание энергичного и подчас авантюрного владения материалом с глубокой, прочувствованной человечностью, типичной для его творчества. Ощущение каменной неподвижности в его перформансах – столь же скульптурное, сколь и яркое выражение творческого метода, лежащего в основе поэзии и прозы Кэтлинга, когда чувствуется, как для придания новой формы вручную месят эмпирическое сырье; когда чувствуется, как в ловких пальцах речь приобретает разные и удивительные контуры. Этот процедурный подход виден в сцене успешного создания предмета мысленной мебели в «Камне преткновения» или пронзительном призвании физического из уцелевших измученных черт исторического персонажа в «Бобби Шило».
Однако нигде обращение Кэтлинга с литературной глиной не раскрывается красноречивей, чем на неподдельно монументальных страницах «Ворра». Это представлено и во внушительном весе трилогии, и в искусной комбинации коры, металла, грязи и камня, из коих возводится здание в разуме читателя; и в мышлении тактильного ремесленника, которое обозначено первой же незабываемой сценой, повествующей о создании легендарного лука. Данную сцену в ее кратком изложении можно было бы принять за стандартный троп фэнтези и мифа, позаимствованный у Толкина, Робин Гуда или Рамы, если бы не материал для производства оружия. С первой же деталью сюжета заинтригованный и шокированный читатель понимает, что если это и в самом деле фэнтези, то весьма отличное от всего, что он встречал ранее в этом претерпевшем немало надругательств и якобы первобытном жанре.
Первобытном потому, что в этой области того, чего никогда не было, мы, возможно, находим самые истоки воображения как человеческой способности, а под немалыми надругательствами имеется в виду до абсурда ограниченная палитра концепций, которые ныне являют собой самые опознаваемые черты и маркеры фэнтези. Уже по определению своему каждый фэнтези-роман должен быть уникальным и самобытным – продуктом индивидуального видения и индивидуального разума, где специфика этого разума питает каждый атом нарратива. Жанр, низведенный халтурными стилизациями до узкого лексикона символов – волшебников, воинов, гномов и драконов, есть жанр, где нет места «Путешествию пилигрима» Баньяна – возможно, самой ранней приключенческой фэнтези-пикареске; «Путешествию к Арктуру» Дэвида Линдсея с его постоянно морфирующими пейзажами и преображающимися персонажами; выдающемуся циклу «Горменгаст» Мервина Пика и шелковистой «Глориане» Майкла Муркока. И это, бесспорно, есть жанр, не способный вместить в себя вегетативную вечность «Ворра» Кэтлинга.
Прошу отметить, это не означает, что сей лихорадочный эпик безжалостно избегает жанровых конвенций, вроде легендарных луков, пугающих чудовищ или, если на то пошло, таинственных лесов. Напротив, в пылких объятьях речи Кэтлинга и в контексте галлюцинаторного и изумляющего антуража произведения столь потенциально заношенный материал с чужого плеча превращается в совершенно иную субстанцию, а эти не поддающиеся классификациям причуды теперь насилу укладываются во взнузданный и окостеневший жанр. Быть может, прежде мы уже и встречали в фантастической литературе зачарованные дебри, но тогда среди их разнообразных ипостасей не было современных торфяных болот Ирландии или джунглей колониальной Африки. И пускай ранее мы могли натолкнуться в произведениях на ангелов, они еще не бывали одновременно столь вознесены и столь попраны, как павшие Былые. Пусть даже это не так, но «Ворр» легко можно принять за произведение человека, который до сего момента не читал ни строчки фэнтези, – такова его потрясающая оригинальность.
Как и в лучших изводах этого скользкого и неуловимого жанра, невозможно погрузиться в хитросплетения и фантасмагории «Ворра» без растущей уверенности в том, что разворачивающаяся история имеет значение не только и не столько в собственных примечательных извивах и разворотах. Точно так же как ритуальный лабиринт Горменгаста столь проницательно доносит до нас Англию двадцатого века, а Торманс Линдсея обращается к вопросам и сексуальности, и метафизики, так и в «Ворре» есть мимолетные намеки на мир устаревший и ушедший, радикально перебранный и переосмысленный в виде спекулятивной мысленной картографии грядущих территорий, выстланных подлеском личной психологии. Бакелитовые химеры вызывают в памяти бесконечные сепийные жилища рабочих классов 1950-х, а сумеречная викториана навевает настроение какой-то утраченной книжной «Детской сокровищницы», курорта в дождливые воскресенья, ярких гравюр с неправдоподобными бестиями, дервишами, убанги с тарелками в губах, мужчинами со старомодными ружьями. В эрнстовском коллаже разнообразных элементов и скульптурном ассамбляже в духе реди-мейда размашистый дебют Кэтлинга возводит из драгоценных и ничтожных обломков дряхлеющего прошлого литературу необузданной будущности.
Стоит отметить характерный подход «Ворра» к персонажу и ансамблю героев. Выколупывая малоизвестные, но правдивые истории из оправы реального мира, чтобы в новом свете представить их в своей аляповатой и глубокой мозаике, Кэтлинг дарит нам сцену, в которой Эдвард Мейбридж[1] – анатом мгновения – получает невероятную, но вполне реальную консультацию у сэра Уильяма Уитни Галла[2] – предположительного анатома Уайтчепела, – и историчность этих протагонистов ни на миг не выбивается из галереи одноглазых и угрюмых изгоев либо пугающих безголовых антропофагов. В замшелых пределах запущенного парадиза «Ворра» фактическое не имеет никаких привилегий в своих отношениях с фантастическим, они врываются на территорию друг друга – вкрадчивый ползучий кудзу переписывает память и открывает для вторжения закоснелое прошлое. Остается впечатление – как при чтении любого истинного образчика мифологии или романтики, – что эти невообразимые события в каком-то смысле обязаны были произойти или, возможно, каким-то образом происходят вечно, где-то под шкурой бытия.