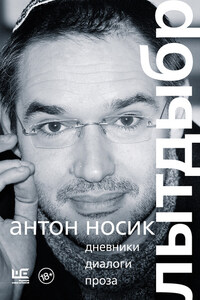Когда Карабчиевский первый раз пришел в редакцию критики и литературоведения «Советского писателя», никто сначала не опознал в этом узкоплечем человеке с мягким взглядом и обволакивающим голосом автора «Воскресения Маяковского». Он мнился фигурой совершенно другого размера и поведения – казалось, резкий, суровый, беспощадный текст принадлежит громогласному и уверенному в своей правоте человеку. Юрий Аркадьевич, как выяснилось, был из людей сомневающихся, драматично ощущающих жизнь всеми пятью чувствами, и явно обладал шестым. Как ни любил он слово и литературу, действительность для него была первостепенна, хотя и мало к нему расположена. Поэт, правдолюбец, еврей – он часто натыкался на ее шипы и подводные камни. После 1968 года, ввода советских танков в Чехословакию, он перестал печатать в России даже то немногое, что писал. Международную известность (не громкую) ему принесла публикация в «МетрОполе», а настоящую славу – написанное в 1983 году, изданное в Мюнхене в 1985-м, отмеченное премией имени Владимира Даля в 1986-м, взбудоражившее советского читателя в 1990-м – «Воскресение Маяковского». Редактором этого издания я и была.
Человеком Карабчиевский был трезвым (и очень умным), поэтому понимал, что в большой мере «его Маяковский нужен потому, что скандален. Остальное не прочтут». Однако на волне успеха «Воскресения», когда его звали всюду и привечали даже на всевластном тогда телевидении, прочли и его прозу – «Жизнь Александра Зильбера» (1975), «Тоска по Армении» (1978), «Незабвенный Мишуня» (1986). Впрочем, хотя читатели и признали его несомненный талант, в том числе публицистический, популярность долго не продержалась – нераспроданный тираж пронзительной «Тоски по дому» после его похорон пошел под нож, а книгу стихов «Прощание с друзьями» ему пришлось выпускать за свой счет тиражом 500 экземпляров. Возможно, что после нынешнего (третьего) переиздания легендарного «Маяковского» прозаическим книгам писателя вновь «наступит свой черед». И главное – «Воскресение» прочтут точнее: как книгу о любви, а не о ненависти.
Карабчиевский всегда писал о том, что хорошо знал, а хорошо узнать человека, тем более поэта, без любовного внимания к нему довольно трудно. Другое дело, что пристальный взгляд часто приводит к разочарованию, как в этом случае. Любовь к Маяковскому, сначала романтическая, по-юношески безоглядная, сменилась ревнивой и пристрастной, от которой недалеко до желания разобраться в чувстве, перевернувшем жизнь. Автор предупреждал своих критиков, что, приветствуя всех оппонентов, не примет единственного обвинения – в ненависти к Маяковскому, что «жесткость и даже порой жестокость к своему герою вовсе не означает ненависти к нему», что «если перечислить все оттенки того непростого чувства, какое испытывает автор к герою, то слово «любовь» займет свое место и даже, может быть, не последнее».
Кстати, главы о любви и женщинах Маяковского в советские времена были самыми шокирующими. Ведь Карабчиевский печатался в основном за границей, и у него не было оглядки на ханжескую советскую цензуру, которая бы в жизни не допустила столь пристального взгляда на отношения с «переменчивой, умной, жгучей» Лилей Брик, на страсти по Татьяне Яковлевой, изломанные отношения с Вероникой Полонской. Это сейчас нам, закаленным публичными откровениями, кажутся естественными для исследователя разговоры о «странном тройном союзе», о друзьях-соперниках, о счетах с женщинами, параноидальной боязни смерти, но тогда обвинение автора в подглядывании в замочную скважину было из самых ходовых. С чем он категорически не соглашался тогда, и нельзя согласиться сейчас: «Маяковский сделал все возможное, чтобы самые интимные детали его жизни могли обсуждаться как общественные явления, как исторические события, как факты жизни страны». Конечно, автором двигало желание рассказать не просто о том, о чем не рассказано, а еще и о том, о чем говорить нельзя. Ведь его главный пафос – не разоблачить Маяковского, но стереть с него глянец, нанесенный многочисленными доброхотами, делавшими карьеру на имени «лучшего и талантливейшего». Разобраться в том, что про поэта наговорено, что говорил сам поэт и как его слова отзывались в реальности. Ну и, конечно, очистить восприятие стихов Маяковского от эманации его личности, сильнейшей при авторском чтении.
Карабчиевский честно рассматривает лучшее, или то, что считалось лучшим у Маяковского, но въедливо вчитываясь в строчки, он опровергает их шедевральность примерно тем же приемом, в котором упрекает Маяковского.
«Слышу:
Тихо, как больной с кровати,
спрыгнул нерв,
И вот, – сначала прошелся
Едва-едва,
Потом забегал, взволнованный, четкий.
Теперь я и он и новые два
Мечутся отчаянной чечеткой.
Перед нами так называемая развернутая метафора, небольшое сочинение на тему выражения «нервы расходились» или «нервы расшалились», употребляемое в быту в переносном смысле. <…> С годами метафора состарилась и превратилась в речевой штамп. Казалось бы, для поэзии она потеряна. Но приходит Маяковский, производит простой анализ, вспоминает буквальное значение слов и сочиняет фантастический рассказ о бегающих по комнате нервах».
Критик показывает, как происходит реализация речевого штампа, возврат к буквальному смыслу, то есть окончательное убийство метафоры, а не ее рождение. Несправедливость приговора несколько оправдывает интерес, с которым следишь за развитием мысли автора – острой, оригинальной, бесстрашной.
«Воскресение Маяковского» недаром сам автор называл «филологическим романом». Это блестящее художественное повествование, точное по словам и по мысли, где ирония, юмор смягчают жесткость оценок и снимают явные передержки в подходах. И дело не только в изобразительном даре писателя, но и в его умении воссоздать сам воздух того времени, выявить внутренний код тех дней. И здесь мало профессионализма и художественного мастерства, здесь важен уровень личности самого писателя. Репутация нигилиста и ниспровергателя, закрепившаяся за Карабчиевским после выхода книги, – печальное, но характерное недоразумение, поскольку ее пафос как раз в возрождении полуутраченных нами понятий и норм.
Карабчиевский считал себя «кондовым реалистом», но только в том смысле, что ему был важен подлинный автор, поскольку в поэзии неважно, кто первый, а важно, кто – подлинный. Поэтому он взял хрестоматийный портрет Маяковского и слой за слоем счистил лак, нанесенный литературоведами, учебниками, мемуаристами. И на расчищенном полотне нарисовал свой портрет поэта, проступивший из сотен его стихотворных строк. Этот портрет «человека без убеждений, без концепции, без духовной родины» ему не понравился: «Ироническая маска вместо самовыражения, грамматическая сложность вместо образной емкости, и в ответ с читательской стороны – восхищение виртуозной техникой речи вместо сотворчества и катарсиса».