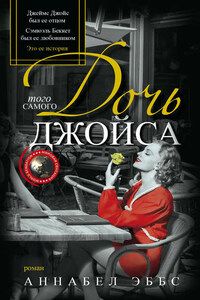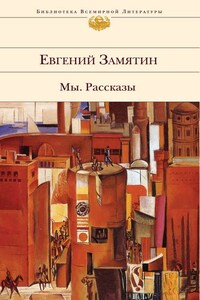После войны приехал в губернию с юга высокий мужчина, назвавшийся Гуннаром Хуттуненом. Он не пытался подрабатывать земельными работами, как все южане, а просто взял и купил старую мельницу вa Суукоски на берегу реки Кеми. Местным жителям эта сделка казалась убыточной: мельница не работала с 1930-х годов и разваливалась на части.
Хуттунен заплатил за мельницу и поселился над ней. Местные землевладельцы и члены кооператива до слез смеялись, когда услышали новость: видно, не перевелись еще на свете дураки, хотя много их полегло в войне.
В первое лето Хуттунен починил гонторезный станок, доставшийся ему вместе с мельницей, и дал объявление в газету “Вести Похьолы”. Начиная с этого момента все сараи в Суукоски стали крыть гонтом, это выходило дешевле, чем заводской толь, который к тому же было недостать: немцы сожгли всю Лапландию и стройматериалы стали страшным дефицитом. За рулон рубероида в деревенском магазине приходилось отдавать по шесть килограммов масла. Тервола, хозяин магазина, знал цену вещам.
Гуннар Хуттунен ростом был метр девяносто, русые непослушные волосы, угловатый череп, крупный подбородок, длинный нос, глубоко посаженные глаза, большой крутой лоб. Высокие скулы, узкое лицо. Уши, правда, несколько крупноваты, но зато они не торчали, а были аккуратно прижаты к голове – наверняка родители в детстве заботились о том, чтобы он спал правильно. Младенцу нельзя позволять крутиться в колыбели, если уши у него великоваты: чтобы мальчик не вырос лопоухим, его надо все время поворачивать.
Гуннар Хуттунен был стройным и осанистым. Где обычный человек делал шаг, Хуттунен делал полтора. По его следам на снегу казалось, будто человек не шел, а бежал. С первым снегом Хуттунен смастерил себе лыжи, да такие длинные, что до крыши доставали. Хуттунен держал прямой широкий лыжный шаг, отталкиваясь при ходьбе двумя палками одновременно. По дыркам от палок можно было сказать, что здесь проходил Хуттунен.
Было не очень ясно, откуда он был родом. Одни говорили, что из Илмайоки, другие уверяли, что он приехал то ли из Сатакунта, то ли из Лайтила или из Кииккойнен. Однажды Хуттунена спросили, что привело его на север. Он ответил, что на юге у него сгорела мельница. А с мельницей и жена. Ни за ту, ни за другую страховку так и не выплатили.
– Вместе сгорели, – добавил он многозначительно. Собрав из-под обломков мельницы все, что осталось от жены, и предав земле, Хуттунен продал участок, лицензию на водопользование и уехал. К счастью, здесь, на севере, нашлась подходящая мельница, и пусть она еще не на ходу, денег за гонт ему пока на жизнь хватит.
Однако деревенский писарь уверял, что по церковным книгам Гуннар Хуттунен значился холостяком. Как у него тогда могла сгореть жена? Сколько ни судачили, правду так и не узнали, и интерес к этой теме постепенно угас. Подумаешь, там, на юге, и раньше жены сгорали или их сжигали, но не перевелись же они совсем!
На мельника часто нападали периоды глубокой депрессии. Он мог вдруг бросить работу и уставиться в пустоту колючим, суровым и каким-то печальным взглядом. Собеседник невольно вздрагивал, попав в его поле зрения, а разговор с мельником оставлял грустный, если не жутковатый осадок.
Но не всегда мельник был мрачен. Иногда ни с того ни с сего мог развеселиться. Затевал игры, смеялся, шутил, курлыкая, скакал как сумасшедший по березовой роще. Он щелкал суставами пальцев, размахивал руками, изгибал шею, что-то объяснял, бурно жестикулируя. Рассказывал какие-то безумные истории, весело шутил над гостями, хлопал фермеров по спинам, хвалил их ни за что, хохотал, бил в ладоши.
В такие дни молодежь любила собираться на мельнице в Суукоски посмотреть на веселые представления мельника. Как в старые добрые времена, они проводили вечера, играя в игры, перебрасываясь шуточками. Всем было весело и тепло в уютном старом доме над мельницей.
Бывало, Гунни разводил во дворе костер, гости подкидывали в него сухую дранку и жарили рыбу.
Мельник великолепно изображал лесных зверей, и деревенская молодежь соревновалась, кто первым их угадает. То прикидывался он зайцем, то леммингом, то медведем. То махал длинными руками, словно ночная сова, то, задрав морду к небу, выл, словно волк, да так жалобно и надрывно, что дети испуганно жались друг к другу.
Иногда Хуттунен изображал деревенских жителей, и публика без труда их узнавала. Если он притворялся коротконогим толстяком, что требовало от мельника немалых усилий, все сразу будто видели толстого фермера Гнусинена.
Летние вечера и ночи были самым веселым временем года, молодежь их ждала с нетерпением, иногда неделями. Жители боялись идти на мельницу, а если приходилось – старались сделать дело тихо и быстро. Настроение мельника отпугивало гостей.
Чем дальше, тем дольше длились эти приступы, в такие дни мельник вел себя резко, нервы его были как оголенный провод, он мог ни за что накричать на человека. Угрюмый и злой, мог даже не отдать заказчику гонт, буркнуть: не дам, не готово.
Тот уходил ни с чем, хотя вдоль моста лежало несколько стопок свежеструганого гонта.
Зато когда Хуттунен был в настроении, ему не было равных: он паясничал, словно веселый клоун, ум его работал с быстротой станка, движения были мягкие и непринужденные, он веселил и удивлял народ, сердце радовалось, глядя на него.
А бывало, в самый разгар веселья, снова неожиданно уставится в одну точку, вскрикнет пронзительно и побежит по гнилому водяному желобу за мельницу, через реку, в лес, подальше от людских глаз. Деревья гнулись и трещали, мельник несся через чащу, а когда через час-полтора уставший и запыхавшийся он возвращался на мельницу, деревенская молодежь разбегалась по домам, в страхе рассказывая всем, что у Гунни опять началась черная полоса.
Гуннара Хуттунена стали считать в деревне помешанным.
Те, кто жил близко к мельнице, рассказывали в церкви, что Гуннар воет, как лесной зверь, особенно морозными зимними ночами. Он выл с вечера до полуночи, и деревенские собаки были вынуждены отвечать ему тем же. Вся деревня не смыкала глаз. Бедный Гунни, совсем с ума сошел, жаловались жители, даже собак заставляет выть.
Надо с ним поговорить. Взрослый мужик, а воет. Где это видано, чтобы человек выл, как дикий волк.
Но заговорить об этом с мельником никто не решался. Жители надеялись, что он сам одумается и прекратит безобразничать.
Вообще, можно и к вою привыкнуть, – говорили те, кто ждал своего заказа на гонт.