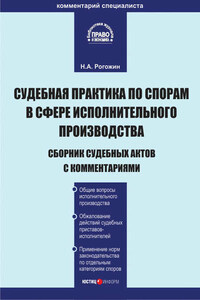Отдаю себе отчет в опасности затеи заняться мемуарами, но ни один литературный жанр не дает такого простора для самовыражения, объяснения читателю своего мнения о том или ином событии или человеке. Нынче многие пишут мемуары. Причина расцвета жанра в том, что в недавние времена труднее всего было доносить до читателя мысли искренние, от души, а легче всего – общепринятые банальности.
Свою задачу усматриваю не в том, чтобы представить свою персону в более выгодном свете, нежели заслуживаю. Что и говорить, не мягкий я, белый и пушистый. В мемуарах хочу объясниться, прежде всего, с самим собой. Принародно – во имя обогащения читателей кое-каким опытом и знаниями. Извлечь многое из-под спуда времени и предрассудков, предвзятости, тьмы низких истин. Записки субъективны, проблема своей правоты или неправоты не волнует меня, потому что на моих глазах изгои становились вдруг героями, а якобы великие люди – шелухой и даже подонками.
Мне приходилось встречаться, сталкиваться, быть приятелем, а иногда и дружить со многими известными и знаменитыми людьми. Поэтому взаимоотношения с ними – не только мое дело. Здесь моя точка или кочка зрения может что-то добавить к их портретам.
Один из самых сильных побудительных мотивов для написания мемуаров: никто толком не разобрался в том, как мы жили, что произошло с нами и со страной. Поэтому одну из своих задач вижу в том, чтобы записки стали одним из свидетельств, документом, зеркалом моего времени. Но при этом ежели рожа крива, то причем тут зеркало?
У каждого человека есть самое первое воспоминание. Детское предсознание, как уверяют многие, просыпается еще в чреве матери, после рождения бурно заполняется впечатлениями подсознание и сознание. Маленький человек приблизительно до трех лет думает о себе в третьем лице. Помнится такой случай. Захожу к писателю Анатолию Кривоносову весь в цементной пыли – мы обустраивали только что полученные квартиры. В прихожей стоит Маша, девочка лет двух, и, глядя на заявившееся усатое и грязное чудовище, вслух успокаивает себя: «Маса, не бойся».
Но наступает момент, когда сознание становится в полном смысле сознанием существа, думающего о себе уже в первом лице. И как пограничный знак между предсознанием и сознанием – первое впечатление, которое запоминается на всю жизнь. Сильное или слабое, размытое или яркое.
Мое первое впечатление от мира, в который меня поселили, кошмарно. Дрожит земля, от взрывов больно в ушах, мать прижимает мою голову к себе. Мы в погребе, сложенном из старых железнодорожных шпал, на них песок в виде холма, и этот песок серыми беззвучными струйками льется на нас. Противно и страшно воют немецкие самолеты, заходящие на бомбежку. Этот ад продолжается невероятно долго, и я ору от нечеловеческого страха.
Наконец, земля перестает вздрагивать, гул самолетов удаляется. Мы еще сидим в погребе – а вдруг они вернутся или новые налетят? Я еще всхлипываю, меня всего вскидывает, рот непроизвольно хватает прокисший погребной воздух.
Наступает тишина – слышно лишь, как сухо шуршат, иссякая, песчаные струйки.
Мать поднимает крышку, вытаскивает меня на белый свет, восклицает:
– Слава богу, нашу хату не разбомбили!
Мы стоим на погребе. Окраина наша вся застлана белесым дымом, во рту сильно горчит. На станции что-то горит и взрывается. За железной дорогой, за лугом и за Донцом город окутан черными дымами так, что не видно горы Кремянец.
Где-то совсем недалеко заголосили женщины. Еще суше там затрещал огонь, пожирая остатки жилья. Мать запричитала, вспомнив о моих братьях и сестре, подхватила меня и побежала на шлях, то есть на дорогу, ведущую из Изюма в знаменитый некогда город Царев-Борисов.
И другие детские воспоминания не намного лучше.
В предрассветье памяти, еще в ее сумерках, сохраняется повторяющееся по утрам многоголосое «Ур-ра-а!», тонущее во взрывах и пулеметной стрельбе. На самом краешке моей памяти, может, в самом ее начале, идут в атаку красноармейцы, пытаясь отбить у немцев господствующую высоту – гору Кремянец. В древности она называлась Изюм-курганом и упоминается в «Слову о полку Игореве»: «О, Русская земле! Уже за шеломянем еси», – то есть уже за холмом.
Немцы засели там в октябре сорок первого и удерживали Кремянец до мая сорок второго года. За нашей окраиной, в сосновом лесу, находились позиции красноармейцев, и поэтому мы все это время жили на нейтральной полосе. Днем показываться во дворе, копаться в огороде было опасно. Огород да козы под постоянным присмотром среднего брата Виктора остались единственными нашими источниками существования.
Нас неизменно находили красноармейцы и выпроваживали из зоны боевых действий. Мать за ночь делала переходы, неся меня на руках, по тридцать километров. Однажды соседка, не выдержав напряжения, оставила своего мальчика, моего одногодка, в окопе. Мать ее возненавидела и до конца своей жизни относилась к ней с нескрываемым презрением. Как бы ни приходилось трудно, но меня мать всегда таскала с собой. Во время переходов из Изюма и обратно с нею случались приступы малярии. После войны и я болел ею, знаю, как лихорадка трясет и обессиливает.
Однажды мать возвращалась в хату чуть ли не засветло – пуля немецкого снайпера впилась в дверную коробку на какую-то долю секунды позже. Потом мать часто показывала гостям входное отверстие в дереве. Я хотел достать пулю, но она сидела очень глубоко. Ломали старую хату без меня, и я так и не смог выковырять из дверной коробки памятный для нашей семьи подарок «цивилизованной» Европы.
В памяти хранится и такой короткометражный фильм. Сижу среди узлов в кузове грузовика, взрослые суетятся, все время повторяют непонятное слово «эвакуация». Разумеется, нас вывозят не в Ташкент, кому мы нужны, а из зоны боевых действий в село Базы (ударение не торгашеское, на первом слоге, а казачье – на втором), которое было километрах в тридцати от Изюма. Было потому, что его потом затопили воды Краснооскольского водохранилища.
В Базах мучительно хотелось есть – все мое детство пронизано острым чувством голода, оставлявшего меня разве что во сне. Поэтому я еще тогда пришел к выводу, что если очень хочется есть, то надо спать. В Базах вывод получил развитие. Нашел я в зарослях краснотала настоящее куриное яйцо. Белое, крупное, таящее в себе бездну вкусноты. Представьте радость голодного звереныша, которому судьба подарила щедрый подарок. Однако мать, когда я прибежал к ней со своей находкой, сказала, что это чужое яйцо. Его снесла курица наших хозяев – престарелого дида Нестира, который время от времени подавал голос с печи: «Ляксандро Батькович, жизнь, говорят, получшала, табачок подэшэвшал?», и бабки, у которой едва хватало сил двигаться.