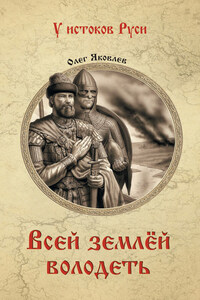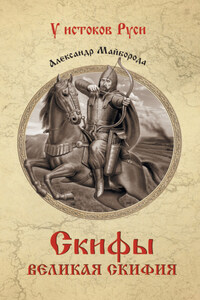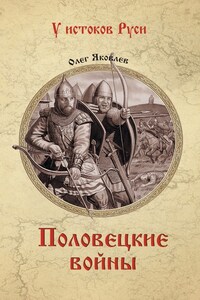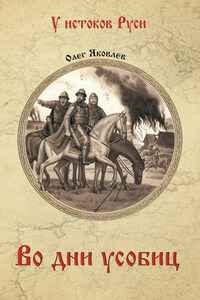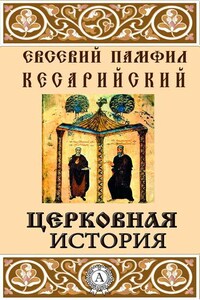На дощатом, грубо сколоченном столе одиноко мерцает тонкая свеча, обливая тусклым светом утлую келью. В полумраке немигающе смотрят с икон лики святых. В глазах их, больших и красивых, читается скорбь, безмолвная, такая, какая бывает у одинокой вдовы или у матери, потерявшей возлюбленного сына.
Седобородый старец-монах, сгорбленный, опирающийся на деревянный посох, тяжело поднимается с упрятанного в глубокую нишу ложа.
Горестно вздыхая, подходит он к столу и медленно садится на скамью. Сухие скрюченные персты сжимают перо, шуршат на столе разложенные листы пергамента, низко склоняется над ними седая голова, бескровные иссушённые уста шепчут слова молитвы:
– «Царь Небесный, утешитель Дух истины, везде находящийся и всё наполняющий, источник всякаго блага и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякаго греха и спаси, Благий, души наши».
Красные воспалённые глаза старца видят плохо, он щурится, длань предательски дрожит. Но вот, превозмогая себя, монах выводит на пергаменте первую букву, вторую. Мерным потоком льются мысли, облекаются в форму букв, слов, рисунков. Старец не ленится, раскрашивает киноварью[1] заставки; подчиняясь его воле, прекращается предательская дрожь в перстах. В заставках и рисунках виден немалый талант. Выходят из-под руки его сказочные птицы, грифоны, львы, крепостные башни, фигуры воинов в шишаках[2] и кольчугах, вздыбленные кони, ладьи с надутыми парусами.
Ясен мысленный взор летописца. В душе его бурлят, как бешеные морские волны, воспоминания о давно минувших летах. Как наяву, выплывают из глубин памяти лица: молодые и старые, прекрасные и уродливые, полные радости и неуёмного гнева, страха и боли, осветлённые любовью и искажённые ненавистью.
И с тихим скрипом ложатся на лист харатьи[3] ровные строчки. Взметаются ввысь столбы пожарищ, звенят острые сабли, разрезают воздух стремительные всадники на огненных скакунах, кипят жаркие споры, глухо и тревожно звонят колокола. Жизнь, бурная, как река в половодье, словно вторгается с летописных страниц в утишённый мир монашеской кельи.
Вновь и вновь возникают из мрака прошлого лица, они мелькают перед взором старца, сменяясь в бешеном круговороте. Но вот остаётся одно… Тёмная прядь волос падает из-под шапки с меховой опушкой на смугловатое сухощавое лицо; прямой нос с едва приметной горбинкой; тонкие змеиные губы; карие глаза, исполненные ума и грусти…
– Ты, ты виновен… Паче прочих! – шепчет чуть слышно летописец. – Иные не ведали, что творили. Но ты знал, что и зачем… Всё знал и шёл… По крови. Боже, сколько крови пролито, сколько душ загублено! И ради чего?! Всем володеть!
Лицо тает, исчезает во мраке, старец читает молитву, отстраняет от себя ставший вдруг таким тяжёлым лист. Окоченевшие персты снова дрожат, медленно разжимаются, перо падает на стол.
Летописец размашисто кладёт десницей[4] крест и вымученно улыбается. Труд его закончен. Он исполнил замысленное, сделал всё, что хотел и что смог. Много лет, изо дня в день, корпел он над летописью. Теперь можно и на покой.
Старец встаёт, опираясь на посох, и, шаркая непослушными ногами, пошатываясь, скрывается в темноте ниши.
Лениво догорает на столе, оплывает и гаснет одинокая свеча. Келья погружается в непроницаемую кромешную тьму.
Год 1053 (6561)
Яркое вешнее солнце вырвалось из-за большого кучевого облака и брызнуло Всеволоду прямо в глаза. Молодой князь зажмурился, по загорелой пыльной его щеке покатилась слеза. Смахнув её ладонью, Всеволод порывисто обернулся. Отряд гридней[5], было отставший, нагонял их с братом. Густая пыль летела из-под копыт резво скачущих коней и клубилась над широким шляхом.
Удостоверившись, что всё с гриднями в порядке, никуда они не делись, Всеволод успокоился и боднями[6] поторопил своего рослого гнедого скакуна. Стал смотреть вперёд. Вот по левую руку из-за холма, поросшего густой зеленью, как-то резко и неожиданно вынырнула Днепровская прибрежная отмель. Дорога, совершив замысловатый извив, круто пошла вниз к реке. Стали видны качающиеся на голубой искрящейся воде утлые рыбачьи лодчонки.
– Привал учиним, али как? – спросил Всеволода Изяслав.
– Зачем, брате? Уж Киев недалече. – Пожав плечами, Всеволод с лёгкой усмешкой взглянул на мокрое, всё в капельках пота чело старшего брата.
Высокий и полный, с коротко остриженной бородой и широкими, загнутыми книзу усами, Изяслав казался с виду властным и могучим богатырём. Портили всё маленькие плутоватые глазки, которые быстро и с неким затаённым трусливым недоверием бегали из стороны в сторону.
У обочины дороги появились несколько странников-калик в белых посконных[7] рубахах, с длинными посохами в руках и тощими котомками за плечами. Догадавшись по расшитым золотом и украшенным драгоценными каменьями малиновым плащам-корзнам[8], что перед ними сыновья великого киевского князя Ярослава, они почтительно склонились к земле.
– Здравы будьте, люди добрые. – Всеволод вынул из дорожной сумы пригоршню мелких пенязей и бросил их на дорогу.
Как только всадники проехали, калики, отталкивая друг друга локтями, ринулись подбирать ярко блестевшие посреди дорожной пыли медные монеты. Но Всеволод и Изяслав уже не видели этого. Забыв и про странников, и про пенязи, вели они неторопливый разговор. Говорил в основном Изяслав, Всеволод же больше молчал, хмурился и с явной неохотой вслушивался в слова брата.
Медленно, как тихая, спокойная река, текли в голове его невесёлые думы.
– А Олёнка красна собою, девица в самом соку. Хошь, приведу? Потешишься на досуге, – говорил Изяслав, лукаво подмигивая.
Так и хотелось Всеволоду сказать в ответ что-нибудь резкое, обидное, но он усилием воли сдержал себя и лишь с презрением скривил тонкие уста.
«Болтает всякую чепуху! – с недовольством подумал он о старшем брате. – С юных лет славен разве что распутством, ума же – ни на грош. Сколько знаю Изяслава, всё вокруг него непотребные бабы, как мухи, вьются. Иной раз ещё, бывало, волосы и бороду выкрасит в рыжий цвет, свиту[9] похуже напялит – и бегом из терема. То жён чужих хватать примется, то напьётся в корчме, так что потом уже и идти не может – гридни его волокут в терем. В Турове, а после в Новгороде, куда батюшка сажал его на стол[10], наложниц, рабынь завёл, будто бесермен[11]. Отец думал, хоть оженится – иным станет. Куда там! Жена, ляшка Гертруда – Елена, сестра князя Казимира, коя родила Изяславу двоих сыновей, верно, уже привыкла к нескончаемым мужниным изменам. Лишь усмехается грустно, услыхав очередной рассказ о похождениях беспутного супруга. Нянчится со своими мальцами – Мстиславом и Святополком. Со мною, когда гостил зимой в Новгороде, держалась просто, была добра и ласкова. Учил её читать и писать кириллическим письмом. Схватывала всё налету, быстро и крепко. Умна, ничего не скажешь. Подарил ей серёжки с багровыми самоцветами, так радовалась, как ребёнок малый. Показывала украшенную миниатюрами псалтирь, говорила: вшивает в неё свои собственные молитвы Богу, Богоматери и святой равноапостольной Елене. С виду она жёнка пригожая – пышногруда, белолица»…