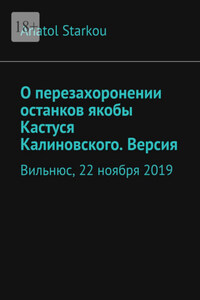На этой старой фотографии – моя мама, Савельева Кира Владимировна, и я совсем крошечный в одеяльце. На обороте надпись: «Калининград. Ноябрь, 1946 г.». Я родился 25 октября: здесь мне – месяц, а то и меньше. Фотография была сделана в разбомбленном английской авиацией городе, до 4 июля 1946 года носившем прусское имя Кёнигсберг и взятом нашими войсками штурмом с сильным артобстрелом. Я долгое время думал, что сзади на снимке географическая карта, пока мама не сказала мне, что это стена: после войны везде были клочья штукатурки, следы пуль и осколков. По дороге с нашей окраины в центр города, на верхотуре разбомбленного многоэтажного дома, от которого остался лишь скелет, долгое время у всех на виду красовалась ножная швейная машинка, чудом не рухнувшая вниз с этажами: достать ее без кранов не могли…
Там, в Кёнигсберге, в августе 1946 года мою беременную мать, носившую меня последние месяцы, чуть не придушила сошедшая с ума здоровенная немка… Это было вблизи целлюлозно-бумажного комбината, где мой отец, старший лейтенант Советской Армии, и мама снимали комнату в двухэтажном доме на самой окраине. В тот день у домика тормознул грузовик: в кузове сидели два офицера и черкес в бурке, а из кабины, хромая, вылез знакомый майор с вокзала. Неделей раньше моя мать провожала на поезд в Ленинград отца, посланного на переподготовку офицеров. И этот хромой майор из расквартированного близ вокзала банно-прачечного отряда давал свою машину с шофером, чтобы ее, беременную, отвезли домой. А теперь «банно-прачечный» майор по срочному делу разыскивал нашего соседа и друга семьи – Алексея Филимонова, офицера СМЕРШа2, курировавшего хозяйственные подразделения гарнизона.
К тому времени Филимоновы переехали за три километра от нас, на другую улицу за большим пустырем. Поскольку отец был в отъезде, а моя мать бывала с ним в гостях у Филимонова и его жены Анечки, «банно-прачечный» майор упросил маму съездить с ними в качестве проводника, обещая привезти ее обратно домой в кабине того же грузовика… На нужную улицу к Филимоновым доехали без проблем, но дальше грузовик исчез: уехал забирать с расчистки развалин немецких военнопленных – и не вернулся! Надо понимать, что никакого транспорта, кроме армейских машин, в Кёнигсберге не было… Делать нечего: в десять часов вечера моя беременная мать и четыре офицера решили идти назад пешком.
Уже смеркалось. Дошли до развилки – оттуда военным еще было шагать 7 км по разбитому городу до вокзала. А к маминой улице дорога уводила в сторону на лишние три километра по пустырю…
У обещавшего отвезти маму домой «банно-прачечного» майора было ранение в ногу – он хромал.
– Не надо меня провожать, – пожалела майора моя мать, видя его хромоту и мучения. – Я сама через пустырь до нашей улицы добегу!
«Ты знаешь, он никак не соглашался отпустить меня одну, – рассказывала потом мне мама, – но я его уговорила».
И она одна, на седьмом месяце беременности, пошла в наступающую ночь через длинный нежилой пустырь. Одинокая дорога по нему была стиснута, с одной стороны, крепостной стеной какого-то оборонительного вала, а с другой стороны, в кустах на склоне холма, прятались брошенные бункеры и подвалы, подземные ходы, куда никто не совал нос. Мимо этих бункеров в кустах мой отец-офицер ходил с автоматом, когда, спустя время, навещал маму в военном госпитале, где она родила меня за неимением гражданских больниц… В то время из подземки могли напасть – до депортации немецкого населения из Кёнигсберга в 1947 году, подполье нацистов еще огрызалось убийствами и терактами; немцы подожгли уцелевший при бомбежках целлюлозно-бумажный комбинат – при его тушении отец чуть не обгорел…