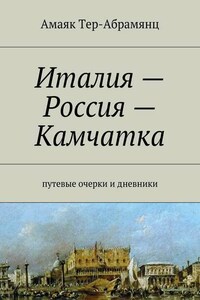– Поедешь в кэпэзэ, – сказал дежурный фельдшер, протягивая доктору Аветисову бланк вызова, – ни разу еще не бывал?
– Нет… – Аветисову и в самом деле еще не приходилось посещать камеру предварительного заключения.
– Говорят мошенник какой-то, за писателя себя выдает, скорее всего, симуляция…
– Угу, – невнимательно согласился молодой доктор, читая бланк, где не была указана фамилия, а в графе причина вызова стояло «боли в животе».
Через несколько минут УАЗ уже нес его по улицам Новотрубинска. Неказистый этот город незаметно проглатывал его молодую жизнь день за днем. «И стоило ради этого оканчивать институт в Москве? Столько обогащать и тренировать ум, мечтать?» – не раз он думал с удивлением, взирая на свою вдруг как-то неожиданно опустевшую молодость как бы со стороны. Трудно было, кажется, придумать более скучное место на земле: здесь не было ни моря, ни старинной крепости, ни гор, ни, хотя бы, великой реки – пятиэтажки, заводы, да деревянные одноэтажные окраины… Ни одна гордая старинная башня не смущала унылую горизонтальность его крыш, была колокольня собора да и ту стыдливо заставили еще при Сталине громадным желтым шкафообразным домом. И хотя он прожил в этом городе почти всю жизнь, ни разу не приходилось ему встречать здесь ни одного художника, ни одного писателя. Казалось, люди этих профессий обитают совсем в другом мире, который никогда не пересекается с тем, слишком обыденным, в котором существует он. Из того мира приходили книги, которые он читал запоем. Он испытывал священный трепет, открывая страницы самой пустой и неинтересной книги, ему казалось невероятным, что она написана человеком и более реальным было бы для него не объяснение технологии типографского процесса, но то, что книги рождаются сами собой в некоем идеальном платоновском измерении мира идей и выпадают оттуда время от времени, как дождь из туч. Даже когда учился в Москве, кого только не видел – и негров, и крохотных, похожих на школьников вьетнамцев, а вот живого писателя встретить не привелось! В мире, в котором он жил, книг не писали, здесь ходили на работу на оборонный завод, стояли в очередях за продуктами, ели, спали, пили водку, в нем, кажется, и писать—то было не о чем: день походил на день как две капли воды, год на год… А тут надо же – писатель! А может и не врет?…
Машина проехала новый горком, прозванный в народе «Белым домом», за светлый бетон, из которого он был выстроен. Глаза Аветисова невольно скользнули по ряду портретов членов цэка (пятнадцать, по числу республик), благообразно гладеньких, подрумяненных, весьма отдаленно похожих на тех морщинистых стариков, которых ежедневно демонстрировало стране телевидение, с каноническим портретом Ленина над ними, чудом художественного мастерства сумевшем облагородить чиновничье невыразительную внешность, и почему-то вспомнилась песенка пиратов из «Острова сокровтщ»:
Пятнадцать человек на сундук мертвеца
Ио-хо-хо, и бутылка рому…
Здание милиции, двухэтажная коробка из серого кирпича, находилось в самом конце Проспекта Революции, угнездившись среди одноэтажных деревянных домиков, многие окна которых обрамляли некрашеные потемневшие от времени, кое-где потрескавшиеся и обломившиеся резные наличники. Их здесь уже ждали. Молоденький белобрысый сержант повел доктора на верхний этаж, и они оказались в длинном казенном коридоре с дверями справа и слева.
– Мы его вывели из камеры, – пояснил сержант, – там народу много, вам будет неудобно работать.
– А что, и вправду писатель?
– Выдает себя за писателя, незнакомые люди, муж и жена, его пожалели и приютили – понравился он им чем-то, три месяца у них прожил, ел, пил за их счет, потом надел их вещи и ушел… – увлеченно докладывал сержант. – Вы только не удивляйтесь, что он босой, туфли у него не свои были, пришлось снять…
Наконец, оказались в большом кабинете. За столом сидел уже другой сержант, толстенький и чернявый, рядом согнулся на стуле пожилой седовласый человек в красной ковбойке, голубых кальсонах и белых шерстяных носках, тут же на подоконнике стояли хорошие, судя по всему импортные, светлые туфли.
– А положить его где? – спросил Аветисов милиционеров.
– Класть у нас негде, – пожал плечами толстенький сержант.
Пришлось смотреть человека в положении сидя и стоя.
– Это у меня язва, – сказал пациент, отрыгнув.
Несмотря на нелепый вид и обстановку и то, что он морщился, держась за живот, было в нем, безусловно, что-то величавое – высок, седая грива несколько растрепанных волос забрана назад, лицо хоть и красное (О, Бахус, Бахус!), но благообразно львиное с крупными чертами, морщины его не портили, даже подчеркивали эту благообразность, черные глаза из под кустистых бровей смотрели куда-то в угол.
На симуляцию, однако, все это как-то не походило, скорее всего и вправду у него разыгралась язва.
– А в больницу его нельзя? – спросил Аветисов.
– Нельзя, – ухмылялись милиционеры.
Аветисов сделал обезболивающий укол.
– Спасибо, доктор, – сказал, поморщившись, пациент.
– Ваша фамилия? – спросил Аветисов, заполоняя бланк вызова.
– Углев… я писатель… – голос у седого был гибкий, глубокий, теперь он уже не морщился, но все так же упорно смотрел в угол. Сержанты саркастически улыбались.
– Ну и что же вы написали? – недоверчиво спросил доктор.
– «Юг в огне», это о гражданской войне…
Аветисов кивнул. Книжные магазины были завалены литературой такого рода, которую редко кто брал, ему показалось даже, что возможно где-то он и видел это название и эту фамилию.
Вот так и живет, – тараторил провожая его белобрысый сержант, – войдёт в доверие, поживет у кого-нибудь несколько месяцев, а потом одевает чужое, берет деньги и переезжает в другой город, других дурить. А тут пожилую пару обокрал…
Много позже Аветисов переехал в столицу, где ему пришлось не раз встречаться с писателями, которые писали и печатались, издавали книги, имели членский билет союза писателей, ходили пить водку в ЦДЛ, но в своем большинстве они чем-то неуловимо напоминали ему Углева, возможно, своим беззаботным стрекозиным порханьем, всеядностью, всегда чутко, как никакое другое племя, чувствующие сладкий запах «халявы», презирающие рутинный ежедневный труд и верность, и в последовательном их появлении, Углев навсегда остался им как бы родоначальником, пусть даже он и взял название чужой книги и имя, как те туфли, которые стояли на подоконнике.