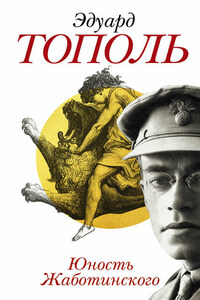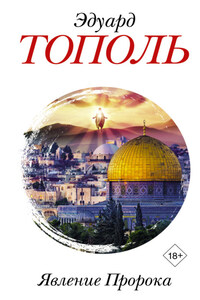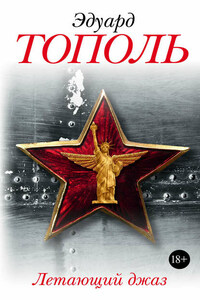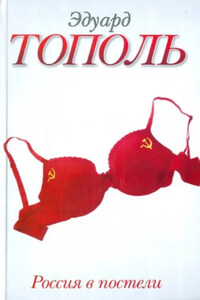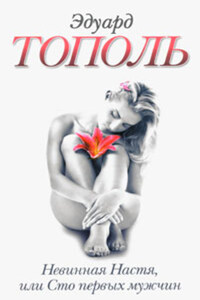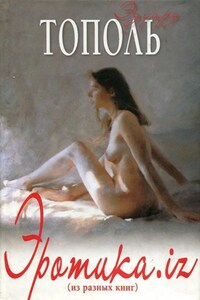Посвящаю Алле – жене, любимой, солнечной…
И памяти моих родителей
«Правда – это не то, что было или чего не было. Правда есть то, что останется в людской памяти навсегда… это и назовут люди правдой, а все остальное – дым…
Если уж выбирать между “действительностью” и легендой, то лучше верить в легенду».
Владимир Жаботинский
«В основе моего дружеского отношения к Жабо (так мы его звали) лежал глубокий пиетет перед его личностью, его талантами, широчайшими познаниями в истории и судьбах мира».
Вера Вейцман
«Невозможно найти человека, подобного Жаботинскому. Жизнь его была еще более необычной, чем созданные о нем легенды. Понятие “Жаботинский” – неповторимое и единственное в своем роде в истории еврейского народа».
Анатоль де Монзи, французский политик и писатель
Жизнь и деятельность Зеэва Жаботинского изменили историю еврейского народа…
В истории человечества насчитывается немного личностей, победа которых столь редка, ясна и чудесна. Для нас Жаботинский является наставником, носителем нашей мечты. Мы связаны на духовном уровне. Мы никогда не думали, что он может умереть, поэтому мы с легкостью можем сказать, что Жаботинский жив в наших сердцах. В самые тяжелые и великие моменты борьбы за создание государства мы не прекращали спрашивать себя, как в такой ситуации поступил бы Зеэв Жаботинский, какое бы решение принял.
Не только для нас, но для всего еврейского народа, проживающего на Родине и за ее пределами, двенадцатое число еврейского месяца хешвана, дня рождения Жаботинского, является днем духовного подъема, возобновления веры, днем клятвенного обещания идти его дорогой. До конца наших дней мы не прекратим ни на секунду пытаться реализовать его государственную и социальную доктрину.
Зеэв Жаботинский жив!
Менахем БЕГИН,
премьер-министр Израиля (1977–1983), лауреат Нобелевской премии, в 1940-х годах руководитель еврейской подпольной организации «Иргун»
Назовите меня снобом, киноманом, да кем вам угодно, но, переехав в 2017 году на ПМЖ в Израиль, я вместо телевизора оборудовал у себя в гостиной домашний кинотеатр. И теперь, когда выпадает свободный вечер, мы с женой ищем в Интернете какой-нибудь замечательный фильм, скажем, «Бумажную луну» Питера Богдановича, «Выпускник» с юным Дастином Хофманом или «Полночь в Париже» Вуди Аллена. И – вся стена нашей квартиры исчезает, открывая волшебный мир прошлого века, совсем, возможно, не такой, каким он был на самом деле…
Я не знаю, любите ли вы кино – настоящее, старое. Но с тех пор, как братья Люмьер с такой же стены, как у меня в квартире, пустили на зрителя паровоз, человечество получило столь высокое кинематографическое образование, что каждый, даже моя кошка, которая посмотрела с нами уже сотню фильмов, может сам поставить кинофильм…
И потому я приглашаю вас нырнуть со мной в прошлое, в самое начало двадцатого века, в раннее утро на рейде черноморского порта Одесса. Один замечательный писатель сказал по этому поводу:
«Если бы можно было, я бы хотел подъехать (к Одессе) на пароходе, летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще не потух маяк на Большом фонтане, и один-одинешенек на палубе смотрел бы на берег. Берег еще сначала был бы в тумане, но к семи часам уже стали бы видны те две краски – красно-желтая глина и чуть-чуть сероватая зелень. Я бы старался отличить по памяти селения: Большой Фонтан, Средний, Аркадия, Малый, потом Ланжерон, а за ним парк – кажется, с моря видна издалека черная колонна Александра Второго. То есть ее, вероятно, теперь уже сняли, но я говорю о старой Одессе.
Потом начинают вырисовываться детали порта. Это брекватер[1], а это волнорез (никто из горожан не знал разницы, а я знал), Карантин и за ним кусочек эстакады – мы на Карантин и плывем, а те молы, что справа, поменьше, те для своих, отечественных пароходиков и еще больше для парусных дубков и просто шаланд и баркасов… В детстве моем еще лесом, бывало, торчали трубы и мачты во всех гаванях, когда Одесса была царицей, потом стало жиже, много жиже, но я хочу так, как было в детстве: лес, и повсюду уже перекликаются матросы, лодочники, грузчики, и если бы можно было услышать, услышал бы лучшую песню человечества: сто языков… Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара – не помню, видать ли их с моря за кленами бульвара, но последний справа, наверное, видать, Воронцовский дворец с полукруглым портиком над сплошной зеленью обрыва. И лестница шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней, второй такой нет, кажется, на свете… И над лестницей каменный Дюк – протянул руку… “Еще невнятное пророчество рассвета, смарагд и сердолик, сирень и синева…”»
Чьи эти стихи?
И стихи, и вся эта цитата – несбывшаяся мечта Владимира Жаботинского, писателя и отца-основателя государства Израиль.
Но разве ты, читатель, уже не увидел на своем мысленном экране и этот кораблик на рейде, и одинокую мужскую фигуру у него на носу, и раннее утро, и выплывающую из тумана Одессу его, Жаботинского, детства? «Еще невнятное пророчество рассвета, смарагд и сердолик, сирень и синева…»
И разве великий Жабо не заслужил у нас, евреев, которым после двух тысяч лет изгнания он помог вернуть свое государство, и у русских, которым он подарил свои прекрасные стихи, пьесы и книги, – разве не заслужил он, чтобы если не в жизни, то хотя бы в кино сбылась его мечта?
«Вот я бреду по улицам моего города… – грезил он в своем романе “Пятеро”. – Первый налетел на меня вислоухий ротозей с вытаращенными глазами… На следующем углу опять стоит молодцеватый студент в папахе и “правит движением”, а сам пьян. Зачем правит движением? Так: взбрело на ум, подвернулся угол без городового, а извозчиков со всех сторон масса… На третьем углу, не благоволя меня заметить, прошла, брезгливо сторонясь, холодная синеглазая красавица в наряде богатой и утонченной содержанки – а я знаю, что под бархатом на ней жесткая власяница и еще пояс из колючей проволоки. Если бы царапнуть ее и попробовать языком вкус кровинки – обожжет купоросом…
С Марусей не на улице будет у меня свидание, мы сговорились встретиться у меня в Лукании…
А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют, и опять все будет, как тогда в нашу безбрачную ночь, только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово “ласка”. Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка – все ласка. И Бог, если добраться до него, растолкать, разбудить, разбранить последними словами за все, что натворил, а потом помириться и прижать лицо к его коленям, – он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется женщина».