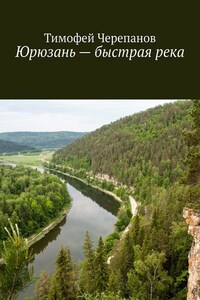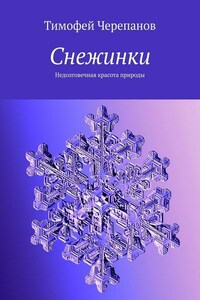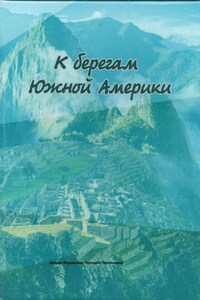9 мая 1971 года было воскресенье, но у студентов Бауманки выходных не бывает. Проснувшись в комнате общаги, я посмотрел в окно на деревья, распускавшие первые робкие листочки, на глухо стучащий вдоль леса поезд метро, на пустырь, именуемый по недоразумению Измайловским проспектом – пейзаж, в котором менялся лишь лес, а вдоль линии домов проходили вечно спешащие безымянные москвичи. Надо бы спуститься вниз, повернуть за угол, где уже по 6-й Парковой были гастроном и булочная, но они ещё не открылись. Почему-то вспомнилось, как тремя годами ранее я зашёл в эту булочную, взял батон хлеба и спросил у кассирши, сколько он стоит. Она не успела ответить, как стоявший за мной в очереди старикан назидательно изрёк:
– Молодой человек, в вашем возрасте пора бы уже знать, сколько стоит хлеб.
Да, пора… Откуда было этому моралисту ведать, что я не на асфальте вырос, а московский батон впервые держал в руках? Я знал, как хлеб растят, а не покупают.
Соседи ещё спали, поэтому я приколол к доске кульмана чистый лист – скоро сессия, пора было браться за курсовой проект. Успел начертить лишь рамку и угловой штамп, как в дверь постучали. Открыл, не выпуская карандаша из рук – передо мной стояла женщина-почтальон. Обычно письма и даже телеграммы она оставляла внизу, на столе у вахтёрши, а тут поднялась на скрипучем лифте аж на шестой этаж.
– Черепанов – вы?
– Да, я.
– Распишитесь.
Я расписался в формуляре, взял телеграмму и успел лишь сказать «спасибо», как женщина повернулась и бегом побежала к лифту, через плечо бросив: «Да не за что там спасибо говорить».
В телеграмме было всего два слова: «Мама умерла», и подпись сестры.
Дальнейшее было как в тумане. Что-то сказал соседям по комнате, взял плащ из «болоньи» и поехал в аэропорт. Там по телеграмме купил билет до Уфы, из аэропорта – прямиком на вокзал, откуда на местном поезде, маршрут которого напоминал подкову, огибающую Южный Урал, можно было доехать до станции Сулея. Один конец этой подковы находился в Учалах – это Азия, а другой в Салавате – это Европа. Мне – в сторону гор, к Азии. Вагоны больше напоминали электричку, с сидениями, на которых нельзя было толком ни сидеть, ни лежать, а поезд был ночной. В Сулею поезд приходил на рассвете и надо было сразу бежать к «Пазику», который возил пассажиров за сотню вёрст до Дувана и далее, по Старому Сибирскому тракту. Тракт тогда представлял собой разбитый в хлам грейдер, а пассажиры брали автобус штурмом, толкаясь возле единственной открытой двери. Те, кто уже проник в салон, пытались втащить родственников или попутчиков через окна.
Автобус высадил пассажиров в Дуване возле дощатого навеса с надписью «Автостанция» и укатил по тракту дальше – в сторону Тастубы, а мне предстояло добираться ещё около сорока километров на попутном грузовике, либо же идти пешком – в деревню Бурцевка на реке Юрюзань.
Уже не помню где, то ли в Сулее, то ли в Дуване, встретился с братом Михаилом, учившимся в Уфе, и дядей Васей из Бердяуша – братом отца. Подождали на конце Дувана попутки, но её сутки ждать можно было, и пошли пешком к синевшему на западе лесу. В лесу уже цвели подснежники – ими там называют ветреницу дубравную, но было холодно, ветрено, падали хлопья снега. Где-то возле Кутюмской горы нас встретил грузовик: оказалось, его послал за нами леспромхоз. К дому подъехали с задов и по огороду прошли к дому. Возле дома тятя – так называла отчима мама, а следом за ней и мы – строгал доски для гроба. Изба была полна людей, мама лежала на столе. Когда мы подошли, на губах у неё вдруг показалась пена и кто-то быстро смахнул её тряпочкой. Все молчали. Маме было 47 лет…
Хоронили на следующий день. Кладбище, или, как там говорят, могильцы, находится на нижнем конце деревни, на подножии горы – там сухо. Гроб несли женщины на полотенцах, мужчинам этого делать не полагалось. Остальные шли позади. Дул холодный ветер.
Говорили речи, в основном о той маме, какой она была ещё до моего рождения. Оказывается, она была секретарём комсомольской организации леспромхоза, названного по реке Юрезанским. Дядя Вася пытался вмешиваться в ритуал – он был старшим в роду, да и на фронте командовал взводом сапёров-подрывников, так что смерть для него была делом обыденным. Но в деревне были свои обычаи, на него зашикали и всё сделали по-своему. На холмик поставили пирамидку со звездой, сваренную из железных прутьев, к которой привинтили табличку с именем и датами. Отец пригласил всех на поминки.
В доме уже был накрыт стол – тот самый, на котором только что лежала мама, и ещё, видимо, принесли от соседей. Дядя Вася напился – после войны он за стол без «наркомовских» ста грамм не садился и периодически уходил в запой, тогда с трудом узнавал людей. В этот раз, пока он был ещё в сознании, начал выяснять у сестры, как умирала мама. Узнав, что у неё пошла горлом кровь, тут же, как заправский патологоанатом, поставил два диагноза: либо рак печени, либо туберкулёз лёгких. Раком мама не болела, а туберкулёз отрицала и местная врачиха, и отец. Но прав был дядя Вася…
На следующее утро пошли пешком в Калмаш, ловить попутку до Дувана. Выглянуло солнце, по-башкирски яркое и ласковое, а на душе было холодно и пусто. Дядя Вася был в невменяемом состоянии, его приходилось тащить под руки, а он бормотал что-то бессвязное – возможно, поднимал своих бойцов в атаку. Отец был жилистый, но сухощавый, а дядя Вася – коренастый, широкий в плечах и очень сильный. Про современных солдат говорил, что роту бы без ружья задушил, как цыплят тонкошеих. А тут он обвис и мы его еле тащили. Приходить в себя он начал лишь в Сулее. После войны он работал на железной дороге и уважал её даже больше, чем армию, выразив это однажды такими словами: «Железная дорога, Тимка, это… это… твою мать!». Наша мать, конечно, тут была ни при чём. Увидев рельсы, он только что целовать их не начал, взгляд обрёл осмысленность, он изрёк, что тут его каждая собака знает, мы ему уже не нужны, и побрёл вдоль путей куда-то в пространство.