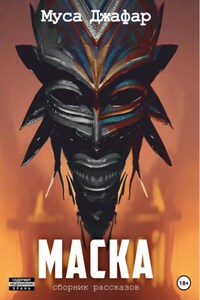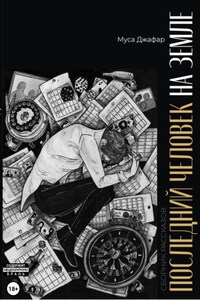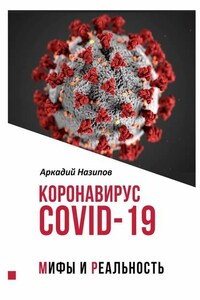– Какой же ты у меня глупенький, Марвин. Просто беспомощный ребенок.
Тихий смех рассыпался серебряными колокольчиками в ночной тиши.
– Ты ведь никогда не мог сделать ничего путного без своей милой женушки. Верно? Ну, хоть за ручку приведи и покажи, так нет же – все равно где-нибудь, да и наломаешь дров. Непутевый ты мой. И что это тебе вздумалось бродить по ночам, клады искать.
Еще один перезвон колокольчиков.
– Ну посмотри на себя – руки дрожат, ты весь взмок, да и глаза ничего, поди, не видят. И, явно, не взял с собой смену. Ты же простудишься раньше, чем что-то накопаешь. А потом будешь перхать неделю, или еще хуже – сляжешь с температурой. И кто за тобой будет смотреть? Ведь ты даже лекарство без меня принять не сможешь. А температуру померить, а компресс на лоб, а травяной чай! Ох ты, господи, почему это ты у меня такой непутевый? Никогда не мог за собой присмотреть.
«Пожалуйста, помолчи. Прошу тебя, замолчи хоть на минуту. Я так больше не могу, я не могу, не могу.»
Он повторял эти слова, как заклинание, последние полчаса, если не больше. Я так больше не могу – удар лопаты. Я так больше не могу – еще один удар. С каждым замахом силы покидали его, если они вообще и были с самого начала. Он ощущал себя безвольным манекеном, тряпичной куклой, в которую всевышний забыл вдохнуть жизнь.
«Что со мной стало. Я же разваливаюсь на куски. Как-будто эту яму тогда рыл кто-то другой, а не я. Мне тяжело дышать, сердце сейчас разорвется, а не продвинулся и на полметра. А если это вообще не здесь!»
Он с ужасом представил, что копает не там, где нужно. О том, чтобы начать свои поиски в другом месте, он боялся даже подумать. Десять лет назад, когда он был здесь в последний раз, сил и энергии у него было на порядок больше.
«Я превратился в дряхлого старика. Одышка, спину ломит, колени болят. А ведь мне еще нет и шестидесяти. Черт бы тебя побрал, что ты со мной сделала, что ты со мной сделала, тварь, мерзкая тварь.»
Эти слова заменили старый рефрен и следующие удары лопатой (хотя, это скорее были вялые шлепки по замерзшему грунту) он наносил под заклинание – «Что ты со мной сделала, тварь».
– Прости, дорогая, я не подумал.
– Ну, конечно, не подумал. Когда же ты думал? А?! Для этого голова нужна. Ты же привык, что я за тебя думаю, я за тебя делаю, а ты и спасибо не всегда удосуживаешься сказать. Вот у других мужья так мужья – и зарабатывают, и шмотки покупают, и дома, и машины. А мой дальше простого синего воротничка и не ушел. И о чем я думала, когда за тебя замуж выходила? Другие выбирали себе и покрасивее, и ростом выше, и тех, у кого деньги водились. А я, дуреха! Присмотрела себе заморыша, пожалела. Думала – ничего, сделаю из него человека, станет, не хуже других. Не вышло. Так ведь, как моя мама говорила – в пустой колодец сколько воды не лей, полным не станет. Вот и осталась у пустого колодца. С другими и сравнивать не хочется. Всю свою молодость на тебя угробила, а что получила? Заморышем и остался. Непутевый, никчемный, одним словом.
«Господи, сделай так, чтобы она замолчала. Заткнись, прошу тебя, заткнись, заткнись.»
Лопата в руках весила, казалось, больше пудовой гири. Вдобавок, он уже умудрился натереть кровавую мозоль на ладони, и она ужасно зудела, обещая еще несколько дней мучений после ночной вылазки. Пот стекал со лба грязными ручьями – он вытирал его руками, перепачканными землей и дорожной пылью, и теперь они собирались в крупные капли на его подбородке и носу, смешиваясь с соплями и слезами из воспаленных глаз. Всего меньше чем за час он превратился из обычного городского жителя в потасканного рудокопа, бродягу, обыденного персонажа городских трущоб, в котором невозможно было узнать его, прежнего.
Его судорожные движения, которые он считал копанием, давно подпитывались только отчаянием и желанием заглушить ее сверлящий уши голос.
– Ну просто беда с тобой, просто беда. Сорвался среди ночи, посмотри на него. Ведь не мальчик уже. Лучше бы ты так работал, как сейчас, по ночам бегаешь. Небось, и жили бы лучше, и на люди не стыдно было бы выйти. Надо было мне прислушаться к своей маме, упокой, господи, ее душу. Ты ведь никогда ее не любил, не уважал. Хотя она к тебе, как к родному сыну, относилась. Что, разве не так?
– Так, дорогая. Я ее тоже очень любил.
– Ну, не заливай. Любил он. Если бы любил, она бы с нами и жила. Не помню я, чтобы ты очень уж этого хотел. Ты бы и от меня, небось, не прочь был избавиться, а, Марвин?
– Нет, дорогая. Что ты? У меня никогда и мысли не было!
– Да знаю я. Куда ты без меня. Как потерянный, право слово. И на работу с утра сам не собрался бы. И штанов бы не отыскал.
«Зачем я это делаю? Кому это нужно? Для чего? Лучше все равно не будет. Я уже умер и умирал каждый божий день все десять лет. Что мне стоит умереть на самом деле? Меня никогда, на самом деле, и не было. Это не я. Это не я. Это не я.»
Повтор – удар, повтор – удар. С черного неба начало что-то накрапывать. Ко всем его несчастьям добавился леденящий северный ветер, который постепенно набирал силу. В поясницу как будто вбили кол. То ли еще будет завтра. Если он, конечно, вообще когда-нибудь доберется до дома.
Мойра продолжала говорить и говорить. За долгие годы он научился мысленно отводить ее голос куда-то на периферию своего сознания (того потерянного, как щенок без хозяина, скулящего сознания, которое у него еще осталось), и, при этом, вылавливать ее вопросы и правильно их комментировать. Правда, особого умения для этого не требовалось – главное, вовремя соглашаться или мягко возражать. Если ничего не упустить, то можно избежать бури. Хотя, буря все равно была в программе как минимум, раз в день. Это уж, как пить дать. Ничто не повторялось с такой завидной регулярностью в их доме. Его слух чутко улавливал интонации, паузы, порывы ветра, предсказывавшие погоду в ее голосе и настроении. Он вообще уже давно стал специалистом – предсказателем настроения в одной отдельно взятой семье. Настроения чертовой стервы, которую он ненавидел всеми клеточками своего измученного тела, которое даже не кричало, а вопило и стонало, желая одного – покоя.
Но, до покоя еще далеко. Еще полметра пройдено. Он очень надеялся, что большая часть дела сделана. Черт бы тебя побрал, проклятая стерва.
– Ты что-то сказал, милый?
Последняя нота, в сочетании со словом «милый», не сулила ничего хорошего. Он привык ко всем насмешливым прозвищам в свой адрес, но только не к тем, которые используются в других, нормальных, семьях. «Милый» – это, как далекий раскат грома.
Неужели, она услышала его мысли, почувствовала ненависть, с которой он вонзал лопату в неподатливую холодную землю? Может, ощутила эти удары, эти толчки, которыми он вбивал в ее плоть свой гнев, остатки гордости и жалость к самому себе.