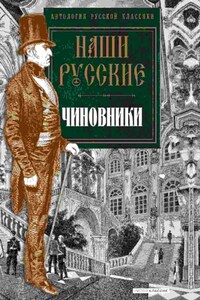Глава 1. Находка дается в лихую минуту
Света не было. Декабрь – какой свет? Фонари тоже не горели. В небе, перед лицом и под ногами хлюпала однородная хлябь из воды во всех видах. В жидком, в виде тумана, мокрого снега и сочащегося под одежду холода. Густав хоть и старался поменьше везти ногами – так дольше удавалось не промокнуть, – но сил не было уже никаких: ел он крайний раз позавчера.
Именно крайний. Он запрещал себе употреблять слово «последний». Чтобы не накликать. «Последний» скажут на похоронах. А пока не зарыли, сопротивляемся.
Однако носы ботинок все чаще зарывались в водяной студень, и между пальцами уже чавкала кашица носков. Со слышным мерзким фырчаньем. Различать стены и заборы от решетки льющихся сверху струй делалось все труднее. И не хотелось аварийно завершиться на зубах местной собачьей стаи. А значит – надо что-то предпринимать, от движения с целью незамерзания переходить к целенаправленному движению, выбрать точку Б, куда и начать стремиться из находящейся в настоящий момент вот в этой луже точки А.
Пожалуй, лучше всего опять на станцию. Твердость и четкость известных Густаву железнодорожных правил внушала чувство надежности. Уже хлеб. Густав громко проглотил. Может быть, удастся разжиться какими-нибудь обрезками в буфете. Ноги сами влеклись по знакомой-перезнакомой улице. Строго говоря, не заслуживающей этого названия. Остатки асфальта, которым двадцать лет, две канавы по сторонам, избы за тесовыми заборами. Именно избы. Рубленые, с печками и сортирами системы «дырка» во дворах. Буквально завтра кончится двадцатый век. И до ближайшего метро всего полста километров.
Вот и станция. Хоть что-то светится электрическое. Не совсем одичание, не палеолит. Зеленый светофор. Маршрут в четную сторону. И что-то даже звякает на путях! Рефрижераторная секция пыхтит дизелем. Густав перешел первый путь и двинулся по тропинке вдоль него. Поравнялся со средним вагоном, жилым. Дверь была приоткрыта.
– Привет, служба! Что – жарко?
– Прр-эт, – донесся изнутри рычащий бас. И высунулась морда шириной со столовский поднос, такая же немытая и закопченная. Вдобавок заросшая жесткими колечками угольно-черной бороды. Густав слегка попятился.
– Чё трр-пхаешься? – с явным дружелюбием продолжил бас. – Хрр-шо в луже? Да-ай сюда! – И дверь распахнулась настежь.
Безработный бывший оборонпромовец поднялся в тепло и, понукаемый хозяином с той же насмешливой заботой, скинул с себя мокрую, каплющую куртку.
– А мокрр-ступы сюда, сюда, вот в эти опорр-ки влазай. – И сопревшие босые ноги гостя объяло засаленное тепло обрезанных по щиколотку валенок. Носки и ботинки зашипели на трубах, извивающихся змеевиком и образующих здесь печку. Через пять минут они с дизелистом рефсекции уже уплетали «быстролапшу» с хлебом и колбасой.
– Мой глаз ‘эрр-ный! Некуда, а?
Густав кивал, втягивая в себя лапшины одну за одной и не будучи в силах остановиться хотя бы для ответа.
– ‘И-ижу, ‘ижу. Даж не назва-сь. Вот я – Семён. Не Сёма какой-нюдь которр-ы-час, эти одесскь-таки штучки, не Сеня, ах вы новы-йи мои, а Семён. – В такт своей речи механик будто лепил из воздуха некие формы ладонями размером с галоши, и почти такими же черными от смазки.
– Густав.
Титаническое усилие отрыва от лапши все-таки следовало совершить. И удалось.
– Уу! Из э-ых? Рпр-сиррных? Ррыби… ну, это, а-а?
Конечно, Семён не мог знать всех причин, по которым Густав не любил своего паспортного имени Август. С детства грызло: что за чертова фантазия матушкина? Детсад хором измывался: ав-ав! И первые классы. Уже хотя бы назло им всем следовало – наоборот. Не Август, а Густав. К фамилии Норин не очень шло ни то, ни другое. Поэтому фамилию тоже отредактировал – предпочитал Нореш. Звучало не то на немецкий, не то на венгерский манер. Не разило родным болотом. И даже в паспорте подрихтовалось гладко. Густав покачал головой и снова углубился в лапшу, избавлявшую от всяких объяснений.
– Не-з э-ых, знацц? Не финик, не немчурра?
Густав снова покачал головой. Лапша была съедена, и Семён разлил чаю.
– Я чё тя у-а-щаю, а? Мой глаз ‘эрр-ный! Ты, то-о, прр-р-боры, п‘ма-эшь? ‘И-жу, п‘маэшь! Я тут сижу, п‘ма-эшь, заррос, как барр-бос! Барр-будос, а-а? А смену не шлют никак. Хош-ба в баньку, а-а? И ваще, эти, бомж-корробки, – он ткнул толстым волосатым пальцем в упаковку от быстролапши, – ррак в бр-рухе тут наживать? Врредно, все вр-ремя-то. Дак ты ба постр-рахо‘ал мене, а? Ну, там, дизель, насос, манометр-ры-дерьмометр-ры. Те-э так и так некуда. А тут тепло, сухо, лапшой тя прродовольствую на пару деньков. Смена пр-рыдет, спр-росит – Семён Изосим‘ч Шматков я. Пушшай домой звонят, они знают. А я впяр-род успею, дак я. А?
От тепла и сытости глаза слипались, в голове вращались шестерни размером с Семёнову физиономию. Мягко, маслянисто, наматывая приводные ремни из лапшин. Осознавать сказанное получалось не сразу. Сутки-двое в тепле и сухе, при еде, за запертой дверью. Да кто бы возражал! Иди уж в баню, благодетель!
– Шо они там думают, на Пр-рыдпор-рто‘ай! – снова раскатился рык механика, Густав очнулся и горячо закивал: