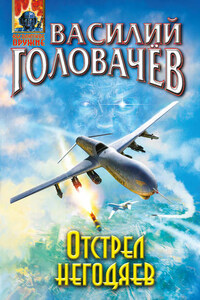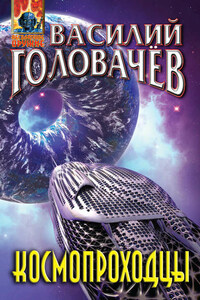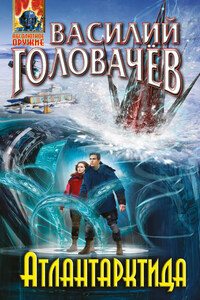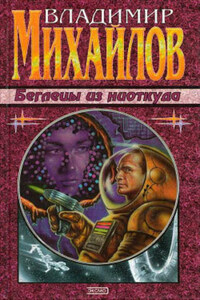Длинный коридор раздвоился, два рукава расходились под углом, каждый из них вел в операционную; я свернул налево. Как положено, я был в салатном комбинезоне, незакрепленная еще маска болталась ниже подбородка, непривычная для меня обувь то и дело заставляла замедлять шаги, чтобы не остаться босиком, но, в общем, все пока шло нормально: никто не обращал на меня внимания, занятый скорее всего своими мыслями о предстоящей нелегкой работе, – да здесь и не принято интересоваться друг другом, это не нужно и не по правилам – в этом пространстве. Я имею в виду не пространство клиники, а нечто совсем другое.
Больной был уже положен на стол – узкий, подвижной, на роликах. Экран установили, и лица пациента я не видел, но мне глядеть и не требовалось, я и так знал, кому выпало лежать тут, в ярком бестеневом свете. Хотя, конечно, он мог выглядеть совершенно иначе, чем на приевшихся портретах. Но это – дело привычное. Все, что от меня сейчас требовалось – это держаться рядом с тем, кто будет оперировать, кому на помощь отмобилизована вся не очень многочисленная команда. Держаться, не вмешиваясь – до того самого мгновения, когда придет мой черед и я скажу хирургу несколько слов и сделаю одно-единственное движение рукой – и он все поймет, вовремя изменит план, распорядится подключить еще один аппарат – и все, дальше дела пойдут как по маслу, операция завершится успешно, а наутро тот, кто провел ее, проснется…
* * *
Я с большим удовольствием рассказал бы о смысле, содержании и ходе этой операции: может быть, кому-нибудь сей предмет и показался бы интересным. Но подобный рассказ мне не по силам: в медицине я ни черта не смыслю, никогда не учился и не работал по врачебной линии, и из всей этой премудрости твердо знаю лишь одно: что у здорового человека есть своя нормальная температура, и составляет она тридцать шесть и шесть десятых градуса по Цельсию. Такой эрудиции мне хватает. А то, что я оказался в операционной рядом с ведущим хирургом, и не только оказался, но еще и нужный совет подал вовремя – это уже, я бы сказал, совсем из другой оперы. Перед тем как отправиться в клинику и участвовать в операции, я получил, как говорят у нас в конторе, скромно и со вкусом называемой «Институт», полную накачку и совершенно четко и точно знал – нет, не знал, скорее – ощущал, в какой миг и что именно надо будет сказать, и что – сделать. Как только я это выполнил, все, что касалось операции, вылетело у меня из головы, и хорошо, что вылетело: если бы все такие разовые вливания со всякими подробностями оставались в мозгах, то и мне, и любому из моих коллег приходилось бы, из-за несовершенной конструкции человеческой памяти, таскать на плечах голову величиной с Луну, а с таким украшением трудно проходить в узкие двери.
Так что о подробностях на сей раз спрашивать меня не нужно. А то, что знаю, буду рассказывать сам, не дожидаясь команды.
* * *
…и наутро тот, кто провел операцию, проснется и за чашкой утреннего кофе с удовольствием будет вспоминать, как ему приснился сон, что называется, в руку: будто бы он прооперировал самого имярека, то есть сделал во сне то, что наяву ему придется совершить лишь через три часа, и не просто прооперировал, но вовремя заметил неожиданную опасность, то, что проспали и рентгенологи, не снимавшие пациента под таким (необычным, правда) углом, и терапевты не услышали, и УЗИ не нашарило – а он вдруг совершенно четко почувствовал грозящую беду уже в ходе операции и молниеносно сообразил – что именно надо сделать. Н-да, бывают же такие сны… Сон, конечно – ерунда, неконтролируемые психические явления, или как их там, – но все-таки вот эта мысль, насчет нежелательного осложнения, пришла хоть и во сне, но по делу, и надо будет сегодня, оперируя, обратить на это особое внимание…
Вот в таком духе будет он думать, мне же остается только пожелать ему всяческих успехов.
* * *
А что касается меня, то очень кстати мне припомнилась поговорка: сделал дело – гуляй смело.
В Институте немного напортачили с расчетом времени, но на этот раз в мою пользу. Я отработал быстро и мог теперь, возвращаясь, сделать небольшой и неспешный крюк по мини– и микроконтинуумам ПС; просто так, чтобы доставить себе удовольствие.
Значит, быть посему.
Натянув тетиву, я прижал напряженный большой палец правой руки к мочке уха, а левой медленно вел лук с наложенной стрелой, ожидая, пока ус-ту остановится хоть на мгновение. Гладкий каменный наконечник упорно смотрел в ее худой бок с клочьями свалявшейся шерсти; весна только начиналась, и мяса на животном было не очень много, но на мне и моих женщинах – пожалуй, еще меньше, а за три последних дня это была первая дичь, к которой я ухитрился подойти. Отщепенцу в голодные дни приходится несладко. Хотя вряд ли и в племени, которое покинули я и мои женщины, дела шли намного лучше: охотников там, понятно, немало, но ртов, готовых вцепиться и жрать – куда больше. Нет, я не жалел о том, что мы ушли, хотя впервые эта мысль пришла в голову не мне, а Ну Ши, у которой возникло странное желание не лежать ни с кем другим, кроме меня. Мне это вначале показалось странным, но она быстро доказала, что права, потому что и у зубастых Раш, и у ковыляющих вперевалку Уро, поедающих, как мы, и мясо, и рыбу, и коренья, и мед, когда удается найти его, – да и у всех прочих: и у тех, кто ест только мясо, и у других, кому по вкусу лишь трава и молодые веточки – словом, у всех весной начинается такой порядок, что Охотник не терпит рядом с собой других мужчин и борется за своих женщин до последнего, не подпуская к ним никого. Я долго думал и решил, что она лучше, чем я, понимает устройство жизни. После этого мы ушли. Ну Ши говорила, что уйти нужно вдвоем, но с этим я не согласился и велел идти со мною еще двум женщинам, быть с которыми нравилось мне больше, чем с другими. Нас не хотели отпускать, потому что я один из лучших охотников, и не хотели отпускать женщин, потому что были и другие мужчины, кому нравилось отходить в сторонку с ними, так что пришлось подраться, и трое из моих противников ушли в те места счастливой охоты, куда попадает каждый, когда здесь его постигает Большая Неудача. Потом племя еще два раза пыталось напасть и причинить Большую Неудачу уже мне, но получилось наоборот. И нас оставили в покое, тем более что недавно еще много – больше трех – девочек посвятили в женщины, и охотникам стало просторнее.
…Ус-ту остановилась там, где я и ожидал: почти в середине полянки, где всегда росла вкусная трава Ир; по соседству с нею я порой находил длинный кусачий корень Ах, которым мне нравилось заедать мясо. Такое место было одно во всем моем лесу. Я тоже застыл. Ус-ту внимательно огляделась, но не увидела меня, потому что на мне была накинута травяная плетенка, очень хорошо сделанная И Та, второй женщиной, умевшей лучше всех плести и такие накидки, и сетки, которыми мы ловим рыбу, а также делать предметы из глины. Правда, на этой земле глины не было, но я знал место в двух днях пути, и каждый раз, когда солнце сворачивало к холодным дням, мы ходили туда, чтобы запастись ею. Успокоенная ус-ту склонила голову на длинной шее к траве и отщипнула. В следующий миг насторожилась: ветер вдруг переменился и подул от меня; на поляне так бывает нередко, ветер блуждает между деревьями и выбегает на поляну то с одной, то с другой стороны. Я видел, как напряглось ее тело. Но стрела уже летела, бескрылая чайка с каменным клювом. На всякий случай я сразу же наложил вторую: так учат нас старые охотники. Но стрелять еще раз не понадобилось. Ус-ту не успела даже оттолкнуться всеми своими ногами; бескрылая чайка вонзила клюв, козочка упала, не начав прыжка, и я длинными скачками понесся к ней, держа наготове короткий нож из очень гладкого и блестящего камня (он достался мне после схватки с незнакомым племенем, проходившим через наши места), чтобы прикончить, перерезав горло.