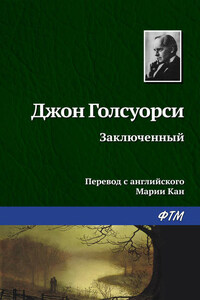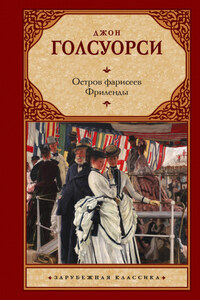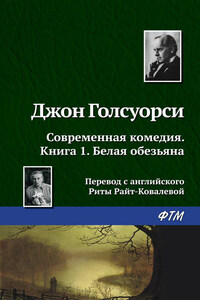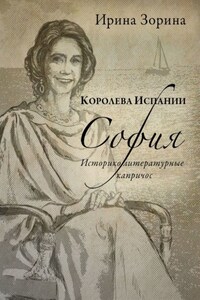Стоял погожий летний день. Лето только начиналось, и птицы еще не допели свою весеннюю песнь, и не облетели еще лепестки с цветущих деревьев. Мы сидели в садике у нашего лондонского дома.
– Чу! А вот щегол! – сказал внезапно наш друг. Дрозды здесь действительно водились – и черные и простые – и сколько угодно синиц. По ночам ухала сова. Залетал и птичий Христофор Колумб – кукушка, которая раз в год вполне серьезно принимала этот заросший деревьями зеленый островок за лесные массивы Кента и Суррея. Но щегол? Никогда!
– Я его слышу вон там! – сказал он опять, встал и пошел к дому.
Вернувшись, он снова сел и заметил:
– А я и не знал, что вы держите птицу в клетке.
Мы признались, что у нашей кухарки и вправду есть клетка с канарейкой.
– Вот дубина! – бросил он.
Его явно что-то взволновало, и притом очень сильно, но что именно, мы не могли понять. Вдруг его прорвало:
– Не выношу, когда кого-то держат в клетке – животное, птицу, человека. Видеть не могу!
И, сердито взглянув на нас, как будто мы, воспользовавшись случаем, нарочно вытянули из него это признание, он быстро продолжал:
– Несколько лет тому назад я вместе с приятелем был в одном немецком городе. Приятель занимался исследованием разных социальных проблем и однажды позвал меня осматривать тюрьму. Я тогда еще ни разу тюрьмы не видал и согласился. День был такой же точно, как сегодня, – небо совершенно чистое, и все вокруг искрилось тем прохладным мерцающим светом, который только кое-где в Германии и увидишь. Здание тюрьмы стояло в центре города и имело форму звезды, как и все дома заключения, построенные в Германии по типу Пентонвилльской тюрьмы. Здесь действовала, как нам сказали, та же система, что и много лет назад. Тогда – как и теперь, без сомнения, – немцы носились с идеей, что узников следует заточать в полном одиночестве. Но в то время это была для них новая игрушка, и они наслаждались ею с той фанатической основательностью, которую немцы вкладывают во все, за что ни возьмутся. Не хочется рассказывать о том, какая это была тюрьма и что мы в ней видели; насколько это возможно, когда речь идет о заведении, которое основано на такой страшной системе, порядок в ней был хороший. Начальник, во всяком случае, произвел на меня неплохое впечатление. Я вам просто расскажу о том единственном, чего никогда не забуду; для меня оно навеки стало символом неволи – для четвероногих и двуногих, больших и малых – для всего живого.
Друг наш помолчал, а потом с еще большим раздражением, как будто чувствуя, что совершает насилие над собой, изменяя природной своей сдержанности, продолжал:
– Мы уже успели обойти все это серое здание, когда начальник тюрьмы спросил моего товарища, не хочет ли он увидеть одного-двух «пожизненных».
«Я покажу вам одного, который пробыл здесь двадцать семь лет, – сказал он. (Вы понимаете, я помню все, что он говорил, слово в слово.) – Этот человек немного утомлен своим долгим заключением». Пока мы шли к камере, он рассказал нам историю этого узника. Работая подручным у краснодеревщика, он совсем мальчишкой связался с воровской шайкой, чтобы ограбить хозяина. Застигнутый врасплох на месте преступления, он ударил вслепую и убил хозяина на месте. Его приговорили к смертной казни, но вмешалась какая-то августейшая особа, которую в свое время привел в душевное расстройство вид трупов – кажется, после битвы при Садове[1]. Приговор был смягчен: пожизненное заключение.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru