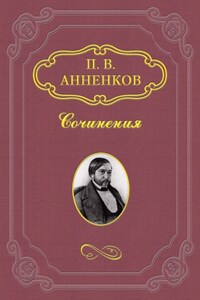Мы думаем, что поступим весьма основательно, если не будем утомлять своих читателей полным обозрением небогатой литературной деятельности прошлого, 1848-го года, – одним из тех обозрений, которые всегда неизбежно сбиваются на сухой перечень, а поговорим здесь только о журнальной беллетристике, значение которой поймется легко теми, кто знает, что журналы поглощают деятельность всех еще пишущих наших литераторов…
Начнем с «Отечественных записок» (1848 г.), где образовался круг молодых писателей, создавший, уже довольно давно, какой-то фантастически-сентиментальный род повествования, конечно, не новый в истории словесности, но, по крайней, мере новый в той форме, какая теперь ему дается возобновителями его.
Всякий несколько занимающийся отечественною словесностию, знает наперед, что изобретатель этого рода был г. Ф. Достоевский, автор «Бедных людей». Он положил ему основание повестями «Двойник» и «Хозяйка» и, как видно, собирался дать ему важное значение, прерванное однако ж всеобщим неодобрением. Кому не казалось при появлении «Хозяйки», что повесть эта порождена душным затворничеством, четырьмя стенами темной комнаты, в которой заперлась от света и людей болезненная до крайности фантазия? Отсюда выходит круг писателей, преимущественно занимающихся психологической историей помешательства. Они уже любят сумасшествие не как катастрофу, в которой разрешается всякая борьба, что было бы только неверно и противохудожественно; они любят сумасшествие – для сумасшествия. С первого появления героя их движения его странны, речь бессвязна, и между ним и событиями, которые начинают развиваться около него, завязывается нечто вроде препинания: кто кого перещеголяет нелепостью. Надо сознаться, что основатель направления – Ф. Достоевский, остается до сих пор неподражаемым мастером в изображении поединков такого рода. Но кто же не согласится, что при этом случае сумасшедшие оказывают особенную услугу авторам? Они освобождают их от труда, наблюдения и делают совершенно излишним то художническое чутье, которое указывает материалы годные и негодные для создания. Зачем им это? Всякая мысль, первое попавшееся слово, самая произвольная выдумка, – все годно для сумасшедшего: не чиниться же с ним, в самом деле! Если бы мы хотели подтвердить выписками справедливость нашего осуждения, мы бы могли представить примеры, которые были бы приняты, вероятно, за неудачную шутку. Разумеется, что, раз отдавшись без оглядки собственной фантазии, отделенной от всякой деятельности, авторы этого направления уже и не думают об оттенках характеров, о живописи, так сказать, лица, о нежной игре света и тени на картине. Требования эти замещаются туманным стремлением к величию характеров, тяжелым поиском колоссальности в образах и представлениях. И действительно, к концу рассказа главное лицо облекается в некоторый род величия, но величие это весьма близко подходит к тому, которым поражает бедняк с картонным венцом на голове и деревянным скипетром на страдальческом ложе своем.
В 1848 году однако ж автор «Хозяйки» как будто вышел на свет после долговременной болезни: фантастический элемент заметно ослабел в новых его произведениях, но зато с вящею силою выступил другой – сентиментальность. Г-н Ф. Достоевский написал одну повесть «Слабое сердце» и два рассказа: «Отставной» и «Честный вор». Спешим сказать, что в повести своей г. Достоевский высказал несомненный талант, в котором смешно было бы отказать автору «Бедных людей». Правда, тут опять является сумасшедший, но на этот раз по крайней мере помешательство имеет ясную причину, и самый ход болезни выказан ловко. Дело вот в чем. Два бедных чиновника, Аркаша и Вася, нежно любящие друг друга, живут как голубки, на одной квартире. Вася – существо любящее, нежное, признательное; Аркаша – собственно безличен, но всю жизнь его составляет одна беспредельная привязанность к Васе. Почти в одно время Вася влюбляется без памяти и взыскивается милостию начальника, который дает ему денег и вместе большую работу: переписать к сроку какое-то дело. Восторг приятелей при стечении таких благоприятных обстоятельств невыразим; но голова Васи не выдерживает. Чем сильнее кипит чувство радости в душе его, тем менее способен он к делу, а срок работы приближается. Напрасно прилагает он все усилия, чтобы свалить этот камень: он все падает на плечи его. Отчаяние начинает пробираться в душу Васи; ему мерещатся упреки, кары несчастия. Он обвиняет самого себя в забвении долга, в неблагодарности, и наконец мешается на сумасбродной мысли, что его отдадут в солдаты: ведь он такой маленький человек! Вот повесть. Она могла бы служить хорошим эпизодом в романе. Литературная самостоятельность, данная случаю, хоть и возможному, но до крайности частному, как-то странно поражает вас; но и не тут еще настоящая слабая сторона повести. Она именно в любви Аркаши и Васи, расплывчатой, слезистой, преувеличенной до такой степени, что большею частию и не верится ей, а кажется она скорее хитростью автора, который вздумал на этом сюжете руку попробовать. Положим, что простые, недальние люди всегда выражают чувство чем-то вроде междометий или отрывистыми словами; положим, что они до пресыщения говорят друг другу: «милый ты мой», «голубчик ты мой» (даже в одном месте у автора: «косолапый ты мой!»), «душка», «Васюк», «Лукаша»; положим также, что они беспрестанно глядят друг на друга, улыбаются и плачут, да на все же есть границы. Особенно для произведений этого рода существует черта, указываемая вкусом, за которой патетическое уже погибает в крайнем ничтожестве самих героев. К тому же мы осмеливаемся, во имя русского человека, протестовать против этой болезненной говорливости сердца. Она составляет исключительное достояние расслабленных людей, вряд ли способных к сильному ощущению; но простой человек молчалив при нем. Он крепко бережет свое добро, цену которого хорошо знает, и тем непроницаемее, чем заметнее место его на свете. За ним надо подсматривать в его хорошие минуты, а не заставлять болтать его. Сама манера автора, слог его, который так походит на проделку западных пилигримов, ходивших на поклонения, ступая один шаг вперед или два назад, еще уменьшает доверие к его описаниям, сообщая им неестественную фальшивую тучность. Беспрестанное возвращение на собственные фразы, вошедшее, кажется, уже в привычку у почтенного автора, прилагается теперь в равной степени к беседе двух друзей и к самому рассказу. Вот как толкуют между собой первые:
«– Знаешь что? ты взволнован, ты много не наработаешь… Постой, постой, постой – вижу, вижу – слушай! – заговорил Нефедевич, вскочив в восторге с постели и прерывая заговорившего Васю, всеми силами отстраняя возражения: – Прежде всего нужно успокоиться, нужно с духом собраться: так ли?