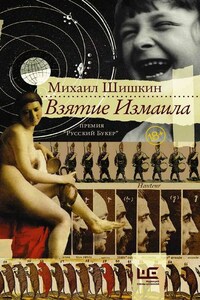Добрый мой Алексей Алексеевич!
Вот перед Вами на листках не лучшей бумаги, исписанных старозаветным почерком, история моей жизни.
Сейчас, когда я пишу эти строки, рукопись не завершена, до конца еще далеко, но мне хотелось бы все объяснить Вам теперь, не дожидаясь последней точки. Я стар и болен, и мало ли что может случиться. Omnes una manet nox[1] – как написал когда-то Гораций.
Дожив до седин, я прекрасно понимаю всю необязательность этого труда. Он был вызван к жизни, поверьте, лишь долгими зимними вечерами, вынужденным деревенским бездельем да одиночеством. Смешно, подобно наивному мемуаристу, думать осчастливить мир изложением подробностей чьей-то далекой чужой жизни, до которых никому нет никакого дела и которые лишь в самом авторе способны возбудить печаль или радость воспоминаний да учащенное биение сердца от какой-нибудь неловкости, или признания, или анекдота, приключившегося с ним Бог знает когда. Чтобы писать мемуары, надобно выслужиться у истории, а я в этой службе не выбился и в унтеры, сами знаете. Мировые бури обошли стороной мой домик, занесенный снегом по самые окна. Великие люди представали предо мной большей частью в литографированном виде. Сам я в жизни, хоть прожил ее просто и честно, ничего выдающегося не совершил, чтобы заслужить благодарность потомков.
Считайте, что я пишу эти записки, последовав Вашему шутливому совету. Помните, в один из приездов Вы утверждали за травничком, что составление мемуаров благотворно для организма? Как всякий уездный доктор, Вы любую мысль или чувство готовы приписать действию пищи или газов. Видно, совсем плохо дело пациента, если ему прописывают подобный рецепт.
Милый мой Алексей Алексеевич, Вы не представляете себе, как я огорчился, узнав о Вашем скором переезде в столицу, хоть и рад искренне, что Вы наконец женитесь, и надеюсь, что счастливо. Вы сожалели, что придется покинуть наши края, вполне, впрочем, притворно, но я Вам верил. Как объяснить Вам, кем Вы стали для меня за эти годы? Невозможно рассказать, что значат Ваши приезды для человека, чье жизненное пространство ограничено лишь двумя комнатами – другие не топятся из экономии, а кругом зима. В провинции исчисляют время почтовыми днями, но я давно забыл, когда они у нас. Так уж получилось, мой добрый доктор, что Ваши приезды, участившиеся в последний год, Ваши рассуждения о политике, о нынешней беллетристике, даже уездные сплетни сделались для меня важнее всех Ваших наперстянок, диет, шпанских мушек и омерзительных микстур, которыми у меня заставлен целый стол.
Я сделал уже необходимые распоряжения. Тетради лежат в верхнем ящике бюро. Их отошлют Вам. Не обижайтесь, милый Алексей Алексеевич, ведь Вы сами виноваты, что приручили к себе одинокого старика, раздутого водянкой.
Еще я распорядился, чтобы Вам послали мой письменный прибор. Не сочтите за старческий каприз, но мне будет приятно, если Вы поставите эту старинную безделку у себя на столе. Может, хоть изредка будете, глядя на нее, вспоминать наши забавные беседы, да, как некогда, щелкать по носу то пастушка с чернильницей, то пастушку с песочницей.
Остаюсь Ваш
Александр Львович Ларионов.
Я родился в третий год нашего странного века, века великих изобретений, великих помыслов, великих мятежей и великого порядка. Родился на самую Пасху. Пасхальное дитя и вправду принесло матушке счастье долголетнего материнства – все мои старшие братья и сестры умирали в младенчестве. И неудивительно, что матушка баловала меня. В белокуром ангелочке, чудом выжившем, она видела весь немногий смысл своего существования.
Мой отец, малодушный, как тогда говорили, помещик, имел деревеньку в Барышенском уезде Симбирской губернии, который и сейчас не в любви у просвещения и прогресса, а тогда и вовсе был край дикий, звериный, и в лесах, как рассказывали мамки, перед каждым голодным годом появлялось множество грибов.
Вот там, в Стоговке, а вернее сказать, здесь, ибо за окном тот же сад, в саду виден сейчас, когда нет листьев, тот же дуб, да все то же, хотя прошла целая жизнь, я и родился и пишу сейчас эти строки. Стежок был невелик, и иголка вернулась к узелку.
Я был ребенком слабым, болезненным, золотушного расположения и, как уже сказал, жизнью своею обязан чудесному исцелению. Матушка показывала меня всем докторам, которых злая судьба забрасывала в нашу тьмутаракань, и часто возила для того же в Симбирск, но все без видимого успеха. То ли заезжие немцы-доктора были плохи, то ли туземные аптекари, их одичавшие в России родичи, неумело варили декокты, так или иначе толку от их лечения было мало. И если бы не моя добрая тетушка Елизавета Петровна, старая девушка с костылем и черепаховой табакеркой, с которой никогда не расставалась, как знать, не убежал бы из родительского дома и этот тщедушный мальчик туда, откуда протягивали ему руки братья и сестры.
По Симбирску в то время бряцал цепями юродивый Андреюшка, злой дурачок, лаявший на всех и евший только с земли, стоя на четвереньках. Я, конечно, ничего этого не помню, но, по преданию, тетушка втайне от моего отца, человека особенного, но о нем еще впереди, притащила меня к Андреюшке, и тот наказал поить меня болотной водицей. И что же? Согласно любимой тетушкиной мудрости – что немцу смерть, то русскому здорово – я выздоровел.
Омерзительный вкус вонючей зеленой жидкости, которую вливали мне в рот, разжимая зубы ложкой, и сейчас живет у меня где-то под языком.
Отец мой был чем-то сильно обижен в предыдущее царствование. История эта держалась от меня, да и от всех соседей и родственников в тайне. Все знали лишь только, что мой отец, будучи человеком гордым и с честью, правда, как убеждала тетка мою сестру, неправильно понятый, вдруг оставил службу, а он был гвардейским офицером, заперся у себя в деревне и стал ничего не делать, будто мстил кому-то своей неудавшейся жизнью. Ему предлагали служить по выборам, он отказался. Советовали заняться имением, он отдал все хозяйство в руки старосты-вора. Он опустился, был неопрятен, ходил круглый год в халате и обрезанных валенках, не хотел никого видеть, ни с кем знаться, переругался с соседями, с губернским и уездным начальством и ненавидел, кажется, всех на свете, а больше всего мою мать.
Видно, матушка искала утешения у моей кроватки, затянутой парусиной, потому что помню ее ночью, в темноте, в слезах. Очень хорошо вижу капли и на щеках, и на носу, и на ее руках, потому что из окна падал свет луны. Не понимая, отчего она рыдает, и не веря в объяснение о порошке-плакунчике, который помогает от мигрени, я сам принимался плакать вместе с ней, и так, прижимаясь друг к другу, мы на пару выли на луну, пока не открывалась дверь из соседней комнаты, вот этой, в которой я сейчас пишу эти строки. На пороге стоял мой отец, взъерошенный, страшный, с подушкой на плече – он всегда, чтобы уснуть, накрывал голову еще одной подушкой, – и говорил что-то грубое, жестокое. Матушка быстро укладывала меня, и их ссоры за дверью продолжались иногда до утра.