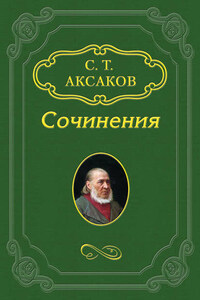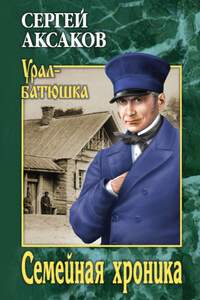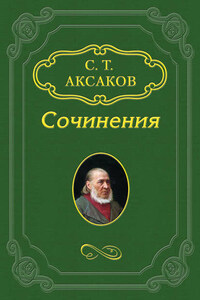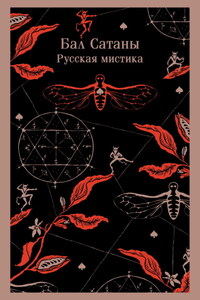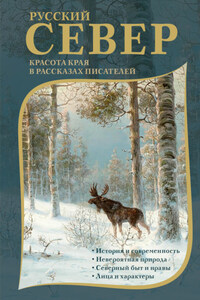Я написал записки об уженье рыбы для освежения моих воспоминаний, для собственного удовольствия. Печатаю их для рыбаков по склонности, для охотников, для которых слова: удочка и уженье – слова магические, сильно действующие на душу. Я считаю, что мои записки могут быть для них приятны и даже несколько полезны: в первом случае потому, что всякое сочувствие к нашим склонностям, всякий особый взгляд, особая сторона наслаждений, иногда уяснение какого-то темного чувства, не вполне прежде сознанного, – могут и должны быть приятны; во втором случае потому, что всякая опытность и наблюдение человека, страстно к чему-нибудь привязанного, могут быть полезны для людей, разделяющих его любовь к тому же предмету.
Уженье, как и другие охоты, бывает и простою склонностью и даже сильною страстью: здесь не место и бесполезно рассуждать об этом. Русская пословица говорит глубоко и верно, что охота пуще неволи. Но едва ли на какую-нибудь человеческую охоту так много и с таким презреньем нападают, как на тихое, невинное уженье. Один называет его охотою празднолюбцев и лентяев; другой – забавою стариков и детей; третий – занятием слабоумных. Самый снисходительный из судей пожимает плечами и с сожалением говорит: «Я понимаю охоту с ружьем, с борзыми собаками – там много движения, ловкости, там есть какая-то жизнь, что-то деятельное, даже воинственное. О страсти к картам я уже не говорю; но удить рыбу – признаюсь, этой страсти я не понимаю…» Улыбка договаривает, что это просто глупо. Так говорят не только люди, которые, по несчастию, родились и выросли безвыездно в городе, под влиянием искусственных понятий и направлений, никогда не живали в деревне, никогда не слыхивали о простых склонностях сельских жителей и почти не имеют никакого понятия об охотах; нет, так говорят сами охотники – только до других родов охоты. Последних я решительно не понимаю. Все охоты: с ружьем, с собаками, ястребами, соколами, с тенетами за зверьми, с неводами, сетьми и удочкой за рыбою – все имеют одно основание. Все разнородные охотники должны понимать друг друга: ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собою.
Чувство природы врожденно нам, от грубого дикаря до самого образованного человека. Противоестественное воспитание, насильственные понятия, ложное направление, ложная жизнь – все это вместе стремится заглушить мощный голос природы и часто заглушает или дает искаженное развитие этому чувству. Конечно, не найдется почти ни одного человека, который был бы совершенно равнодушен к так называемым красотам природы, то есть: к прекрасному местоположению, живописному далекому виду, великолепному восходу или закату солнца, к светлой месячной ночи; но это еще не любовь к природе; это любовь к ландшафту, декорациям, к призматическим преломлениям света; это могут любить люди самые черствые, сухие, в которых никогда не зарождалось или совсем заглохло всякое поэтическое чувство: зато их любовь этим и оканчивается. Приведите их в таинственную сень и прохладу дремучего леса, на равнину необозримой степи, покрытой тучною, высокою травою; поставьте их в тихую, жаркую летнюю ночь на берег реки, сверкающей в тишине ночного мрака, или на берег сонного озера, обросшего камышами; окружите их благовонием цветов и трав, прохладным дыханием вод и лесов, неумолкающими голосами ночных птиц и насекомых, всею жизнию творения: для них тут нет красот природы, они не поймут ничего! Их любовь к природе внешняя, наглядная, они любят картинки, и то ненадолго; смотря на них, они уже думают о своих пошлых делишках и спешат домой, в свой грязный омут, в пыльную, душную атмосферу города, на свои балконы и террасы, подышать благовонием загнивших прудов в их жалких садах или вечерними испарениями мостовой, раскаленной дневным солнцем… Но, бог с ними! Деревня, не подмосковная, далекая деревня, – в ней только можно чувствовать полную, не оскорбленную людьми жизнь природы. Деревня, мир, тишина, спокойствие! Безыскусственность жизни, простота отношений! Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов; туда же бежать от неугомонной, внешней деятельности, мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных, хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений! На зеленом, цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат наплавки ваши, – улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды! Природа вступит в вечные права свои, вы услышите ее голос, заглушенный на время суетней, хлопотней, смехом, криком и всею пошлостью человеческой речи! Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе. Неприметно, мало-помалу, рассеется это недовольство собою, эта презрительная недоверчивость к собственным силам, твердости воли и чистоте помышлений – эта эпидемия нашего века, эта черная немочь души, чуждая здоровой натуре русского человека, но заглядывающая и к нам за грехи наши…
Но я увлекся в сторону от своего предмета. Я хотел сказать несколько слов в защиту уженья и несколько слов в объяснение моих записок. Начнем сначала: обвинение в праздности и лени совершенно несправедливо. Настоящий охотник необходимо должен быть очень бодр и очень деятелен; раннее вставанье, часто до утренней зари, перенесенье полдневного зноя или сырой и холодной погоды, неутомимое внимание во время самого уженья, приискиванье удобных мест, для чего иногда надо много их перепробовать, много исходить, много изъездить на лодке: все это вместе не по вкусу ленивому человеку. Если найдутся лентяи, которые, не имея настоящей охоты к уженью, а просто не зная, куда деваться, чем занять себя, предпочтут сиденье на берегу с удочкой беганью с ружьем по болотам, то неужели их можно назвать охотниками? Чем виновато уженье, что такие люди к нему прибегают? Другое обвинение, будто уженье забава детская и стариковская – также не основательно: никто в старости не делался настоящим охотником-рыболовом, если не был им смолоду. Конечно, дети почти всегда начинают с уженья, потому что другие охоты менее доступны их возрасту; но разве дети в одном уженье подражают забавам взрослых? Что же касается до того, что слабый старик или больной, иногда не владеющий ногами, может удить, находя в том некоторую отраду бедному своему существованию, то в этом состоит одно из важных, драгоценных преимуществ уженья пред другими охотами. Остается защитить охотников до уженья в том, что будто оно составляет занятие слабоумных, или, попросту сказать, дураков. Но, боже мой, где же их нет? За какие дела они не берутся? В каких умных и полезных предприятиях не участвуют? Из этого не следует, чтобы все остальные люди, занимающиеся одними и теми же делами с ними, были так же глупы. Против нелепости такого обвинения можно назвать несколько славных исторических людей, которых мудрено заподозрить в глупости и которые были страстными охотниками