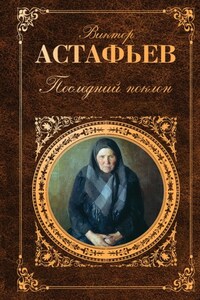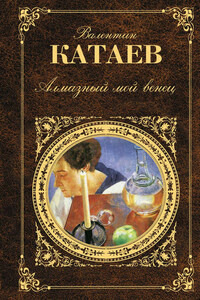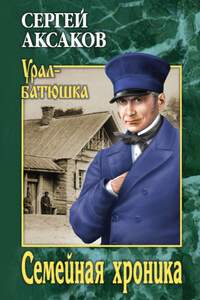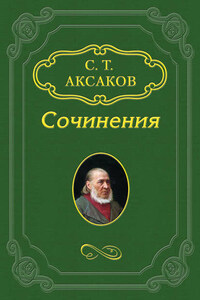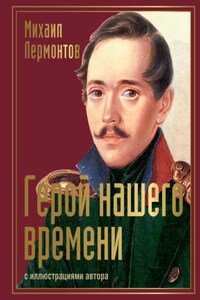В первых годах первого десятилетия текущего, богатого великими событиями, девятнадцатого века, стало быть, с лишком за пятьдесят лет, в одной отдаленной от столиц полустепной и полулесной губернии, соседственной с настоящими коренными нашими лесными губерниями, Пермскою и Вятскою, в совершенном захолустье, жило богатое и многочисленное дворянское семейство Болдухиных в пятисотдушном селе Вознесенском, Болдухино тож; жило в полном смысле по-деревенски. Старики, не получившие никакого образования, разбогатевшие недавно и совершенно неожиданно, не привыкли еще пользоваться и распоряжаться как следует всеми средствами настоящего своего богатого состояния. В иных случаях тратились они без надобности и бросали деньги, как говорится, на ветер, так что добрые люди посмеивались и думали про себя, а некоторые, может быть, и говорили: «Дешево деньги достались; цены и счету им не знают». В иных случаях же, именно в таких, в которых не надо жалеть денег, Болдухины были скуповаты, и вот те же добрые люди говорили про себя, а некоторые, может быть, и вслух, что: не рука крестьянину калач есть и что не смыслят Болдухины, где денежку надо приберечь и где бросить. Впрочем, следуя духу времени, начинавшему пробиваться до границ таких губерний, где зимой частехонько замерзает ртуть, Болдухины желали доставить воспитание своим детям и для того не жалели денег. Разумеется, успех (понимая его в нашем смысле) не соответствовал желанию и значительной денежной трате, потому что не только трудно, но почти невозможно было затащить в такую отдаленную глушь хороших учителей и учительниц; учительницы, или мадамы, как их тогда называли, были необходимее учителей, потому что в семействе Болдухиных находилось пять дочерей и четверо сыновей; но все братья были дети, были почти погодки и моложе своих сестер. Старшей из них, Наташе, совершенной красавице, тогда было четырнадцать лет. Итак, родители ограничились тем, что выписали через какого-то корреспондента, печатно уверявшего в газетах о своей честности, какую-то мадам де Фуасье и какого-то мусье, старого капитана австрийской службы Морица Иваныча Шевалье де Глейхенфельда, и поручили им учить детей всем наукам и искусствам. Старая француженка мадам де Фуасье, не знавшая никаких языков, кроме французского, умела только ворожить на картах и страстно любить свою огромную болонку Азора, у которого были какие-то странные черные, точно человечьи, глаза, так что горничные девки боялись смотреть на Азорку. Шевалье де Глейхенфельд, нидерландский уроженец, «Морс Иваныч», как его звала в доме прислуга, знал основательно два языка – французский и немецкий, неосновательно – латинский, да четвертый еще – составленный им самим из всехевропейских языков и преимущественно из польского и других славянских наречий, потому что капитан долго служил в австрийской армии и много таскался поавстрийским славянским владениям. Вот образчик его речей на этом составном языке. Хотел ли он назвать кого-нибудь глупым, он говорил: «Он има на свой глува шанки, ирбата и слома», то есть он имеет в своей голове сено, траву и солому. Разговоры называл говрианье, сказки – кишкерес, вора – двур, девушку – кобитка и пр. Сверх того он был большой проказник, иногда называл барыню – баранина, притворяясь, что не умеет различать этих слов. Так, например, один раз при гостях за обедом, будучи недоволен, что мало осталось жаркого на блюде, он с досадой отказался от него. Г-жа Болдухина, заметив это, в простоте души обратилась к нему с вопросом: «Отчего, Мориц Иваныч, вы не взяли жареного?..» – «Оттого, моя сударыня баранина, – отвечал капитан, – что ту нема кусок на мой густо». Г-жа Болдухина покраснела до ушей с досады, гости расхохотались, у лакеев искривились лица от сдержанного смеха, а Морс Иваныч, с видом невинности начал допрашивать: не сказал ли он чего-нибудь смешного? Кавалер де Глейхенфельд тоже ворожил, но по звездам, и составлял гороскопы, влезая для наблюдения по ночам на колокольню. Странно, что, на смех здравому смыслу, некоторые из его гороскопов впоследствии оказывались поразительно верны. Разумеется, его считали колдуном и даже побаивались. Он очень любил одного из сыновей Болдухиных, смуглого лицом мальчика, и называл его: «Черный попа». Перед Наташей он благоговел.
Сначала ученье шло, казалось, хорошо; но года через два старики стали догадываться, что такие учителя недостаточны для окончательного воспитания, да и соседи корили, что стыдно, при их состоянии, не доставить детям столичного образования. Болдухины думали, думали и решились для окончательного воспитания старших детей переехать на год в Москву, где и прежде бывали не один раз, только на короткое время. Впрочем, была и другая побудительная причина к отъезду в древнюю столицу.
С половины лета начались сборы; старики не умели понять, что в Москве нужно только побольше денег и как можно меньше народу. Они нагрузились всякою всячиною, набрали кучу ненужных вещей, запасов и людей; разумеется, за все это они дорого поплатились.
В последних числах сентября, еще в хорошую, или, по крайней мере, сносную, осеннюю погоду, довольно рано поутру выехали из села Болдухина две кареты, две коляски, несколько кибиток и телег, навьюченных донельзя. Весь этот обозище отправлялся на своих доморощенных господских лошадях, числом не более, не менее на тридцати семи конях. Не успели отъехать и пятнадцати верст, как семилетний мальчик Петруша, старший из сыновей Болдухиных, фаворит и баловень Варвары Михайловны (так звали г-жу Болдухину), которого повезли уже нездоровым, в надежде, что дорогой будет ему лучше, – так разнемогся или, по крайней мере, так расплакался (ехать в Москву ему не хотелось), что испуганные родители решились воротиться домой.
В селе Болдухине общее удовольствие по случаю отъезда господ в Москву на долгое время находилось в самом разгаре. Многочисленная дворня, проводя до околицы своих помещиков со многими вздохами и слезами, толпою возвращалась домой, рассуждая между собой, зачем уехали бары в Москву. «Видно, денег некуда девать, – говорил, хрипя от одышки, старый ключник Иван Маркыч, – ну, чего не видали в Москве? Ну, где им найти житья лучше, как в Болдухине?» – «Это все она, – подхватила молодая смазливая прачка, сосланная недавно за что-то из горничных в людскую стирать белье. – Барин бы век не выехал из деревни; это все ей, барыне, не сидится дома, она же и дочку подбила». – «Ну, где тебе, глупой бабе, это разуметь, – возражал старый буфетчик, купленный лет за десять Болдухиными. – Можно ли приравнять московскую жизнь к вашей? Здесь глушь, Азия, татары, черемисы да вотяки. Кого здесь увидишь? А там, на Москве у нас, церквей божиих не сочтешь; енералов и всяких важных господ видимо-невидимо, а к тому же и деток надобно обучать…» В таких-то приятных и поучительных разговорах дошла дворня до своих изб, клетей и амбарушек и, разбившись на кружки, принялась пировать на свободе. Хотя помещики были люди не строгие, а добрые и даже слабые, но все как будто гора у всех свалилась с плеч и всякий строил в голове планы, как бы сначала повеселиться, а потом повыгоднее проводить свое досужее время.