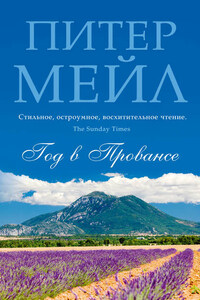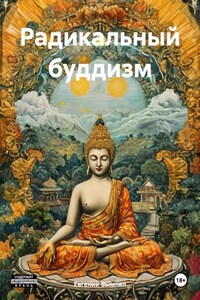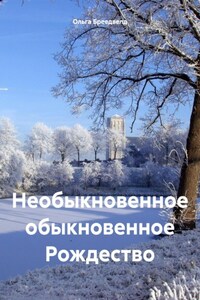Мадлен
Сегодня маман проводила переоценку своих девушек. В такие дни лучше улизнуть из дому, что Мадлен и сделала. И потому сейчас она шла мимо скотобойни, где на снегу темнела замерзшая кровь, а на крюках висели туши, задрав бледные зады к утреннему небу. Перчаток у нее не было. Прозрачный морозный воздух до боли обжигал ей руки. Кожа на костяшках пальцев потрескалась и саднила. День был явно не для прогулок, но уж лучше брести по холоду, чем остаться дома и слышать то, что творится в его стенах. И потом, ей сегодня все равно требовалось выйти на улицу, дабы выполнить одно неотложное дело.
Мадлен свернула с улицы Паве в лабиринт квартала Монторгейль, где улочки непомерно узки, а дома слишком высоки, отчего солнце туда не проникает, зато зловоние удерживается, поэтому на улицах всегда темно и воняет, как от какого-нибудь убогого connard[1]. Старинные дома клонились друг к другу, словно плотно посаженные зубы. Просветов между их обветшалыми кирпичными стенами не было. Их окна изнутри были законопачены тряпьем. Время от времени из сумрака появлялось чье-то лицо, кажется детское, с написанным на нем желанием поесть. Голод царил здесь не одно поколение. Но уж лучше жить здесь, на самом человеческом дне, среди le bas people, как их называли, среди обитателей трущоб и босых бездомных, ночующих в подъездах, чем у маман в ее «Академии», где сейчас вовсю проходила ежемесячная выбраковка.
Мать всегда считала это вопиющим стыдом. Занятием, не приносящим ей никакого удовольствия. Но дело, которым она зарабатывала, требовало внимательного отношения к изменчивой человеческой плоти. Грудь имела обыкновение наливаться и усыхать, в теле поселялись болезни, кожа вытягивалась и становилась дряблой, а язвы и сыпь появлялись без предупреждения. Хуже того, невзирая на кучу предохранительных мер, кто-то неожиданно беременел и с трудом избавлялся от плода. Время от времени всегда что-то происходило, как однажды произошло с Мадлен, и тогда всего за день ценность девушки для утех падала вдвое. Всегда находилась хотя бы одна обрюхаченная или потерявшая товарный вид шлюха, которую маман, выражаясь ее словами, «отправляла на пастбище». Да только на задворках Парижа никаких пастбищ не было. Здесь текла черная река отбросов и нечистот, неся с собой битые бутылки и рыбьи головы. Сейчас, в январе, улицы покрывал снег вперемешку со льдом, в подъездах бездомные жались друг к другу, и кое-где взгляд натыкался на окоченевший труп.
Достигнув улицы Пуант-Сен-Эсташ, Мадлен выбралась на тусклое зимнее солнце. В воздухе пахло дымом и золой. Она покинула места, где обитали беднейшие из бедных, и попала туда, где жили те, кто едва сводил концы с концами. Мадлен обогнула шумный рынок Ле-Аль и пошла на юг, к мосту Пон-Нёф. Народу на улице прибавилось. Среди городских оборванцев мелькали портшезы с аристократками, закутанными в меха и поблескивающими драгоценностями. Когда Мадлен переходила улицу Сент-Оноре, мимо пронеслась золоченая карета. В окошке мелькнуло лицо полулежащей женщины, наряженной в атлас. Может, аристократка, а может, и femme entretenue, едущая в карете своего содержателя. Девушкам, желавшим разбогатеть, Париж предлагал единственный способ – стать содержанками.
Наконец Мадлен вышла к реке, увидев тянущиеся в небо шпили собора Нотр-Дам и единственный железный шпиль собора Сен-Шапель. Если смотреть лишь на очертания зданий, Париж выглядел богатым и прекрасным городом – городом учености и благочестия. Конечно, где-то так оно и было, но только не в местах, знакомых Мадлен. Их Париж стыдливо скрывал. Она шла по берегу грязно-серой Сены, пока не добралась до заведения apothicaire[2], в витрине которого, словно драгоценные камни, поблескивали бутылки. Немного помешкав, Мадлен собралась с духом и толкнула дубовую дверь.
Внутри было тепло, пахло пряностями, однако встретили ее холодно. Возле прилавка оживленно разговаривали две женщины. Едва взглянув на Мадлен, они тут же забыли о ней, как забывают о рваной тряпке. Аптекарь взвешивал на больших медных весах какой-то голубой порошок и вообще ее не заметил. Пока она ждала, пальцы ног сводило от боли, что всегда бывает, когда озябшие ноги попадают в тепло. Мадлен разглядывала полки, густо уставленные стеклянными банками и фарфоровыми чашками. Названия некоторых снадобий были ей знакомы: гвоздика, огуречник, окопник, дудник. Иные говорили мало: корень ялапы, хина, аралия. На глаза попалась коробка с надписью «Кампешский янтарь». А это что такое?
– Представляете? Она так и не вернулась. В голове не укладывается! – говорила одна из женщин, обращаясь к другой.
«Язвительная особа, – подумала Мадлен. – Такие в каждом видят только худшее».
– Так что же с ней случилось?
– Этого никто не знает. Но на следующий же день странствующая ярмарка свернулась и уехала. Наводит на мысль, не правда ли? Я бы свою дочь в таком возрасте ни за что бы не отпустила одну.
Аптекарь поднял голову. Его глаза, словно две черные мухи, ненадолго задержались на Мадлен. Он быстро отвел взгляд, завернул покупки, принял от женщин деньги и натянуто улыбнулся тонкими губами. Едва Мадлен подошла к прилавку, улыбка исчезла.