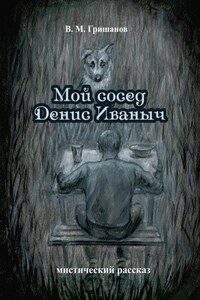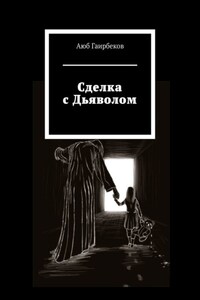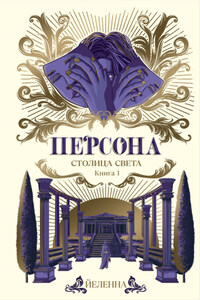Я не помню, как отчим впервые появился в доме. Когда я говорила об этом маме, она удивлялась: «Ну как же! Я же вас еще в прихожей представила друг другу, он сразу попросил обращаться на ”ты” и по имени… Помнишь, тапочки ему еще не сразу нашли?»
Я не помнила ни тапочек, ни прихожей. Впервые я его увидела в гостиной. Он сидел в старом кресле, очень прямо, говорил тихо, благодарил за угощение и, похоже, был слегка растерян. А я украдкой разглядывала его лицо.
Многие потом говорили, что он красив, теперь я понимаю, что это действительно так. Волосы и брови у него были белые как снег, а кожа загорелая. Но я тогда была уверена, что настоящие красавцы должны быть бледными и черноволосыми.
В дверях показался кот. Вообще-то он терпеть не мог гостей, прятался, а покидал убежище не раньше чем через полчаса после того, как за чужаком запирали дверь. Но тут Бармалей вдруг вышел на середину комнаты, уставился на Эрика (я знала, что так его звали, хотя, клянусь всем, чем можно, никакого имени он не называл, ни в прихожей, ни позже), нерешительно подошел ближе, пошевелил усами – и вдруг мягко прыгнул отчиму на колени. Эрик осторожно погладил кота – тот совсем обрадовался.
Эрик почесывал кота, а сам смотрел на меня и улыбался. Я невольно улыбнулась в ответ и подумала, что белые волосы – это, в общем, красиво. Особенно когда глаза у человека голубые, а ресницы словно покрыты инеем.
Бармалей нежился. Так он вел себя разве что в котеночьи дни, когда я, тогда еще первоклассница, принесла домой комок серого пуха со сверкающими глазенками. За шесть лет комок превратился в здоровенного зверя, лезть на руки разлюбил, держался независимо и не столько ласкался, сколько милостиво позволял себя гладить. Сейчас он терся башкой о свитер Эрика, а его мурлыканье было слышно, наверное, из соседней комнаты. Это было прекрасно.
Вот только кота у нас никогда не было. Я сколько раз просила маму котенка завести, но она отмахивалась: сил нет, животному внимание нужно, а меня на тебя-то едва хватает.
Мама сказала, что Эрик отныне будет жить у нас. Он притащил из прихожей небольшую спортивную сумку – там, кстати, нашлись и домашние тапочки – совершенно непонятно, зачем понадобились гостевые. Вещей оказалось неожиданно много: наутро, например, мама готовила кофе не в старенькой джезве, а в крутой кофеварке. На вешалке появились две куртки, на полочке под ними – ботинки и кеды, в ванной – еще одно полотенце, не наше, и вторая зубная щетка в мамином стаканчике. Эрик уверенно жарил яичницу, не спрашивая, где сковородка, деревянная лопатка или прихватка для горячего, – он просто брал вещи не глядя, словно всю жизнь провел на этой кухне и сам расставлял все по местам. Мы с мамой гораздо чаще терялись и бормотали: «Куда подевалась синяя миска?» или «Я же точно помню, у нас оставалось еще молоко». С Эриком такого случиться не могло.
Наша жизнь стала меняться. На осенних каникулах вдруг затеяли ремонт. Узнав об этом, я чуть не разревелась: отдых будет испорчен! Но, как ни удивительно, каникулы получились неплохие: я целыми днями развлекалась, почти не принимая участия в делах. Обошлось без недоразумений, рабочие приходили и уходили вовремя. Ужинали мы в кафе или разогревали полуфабрикаты в микроволновке, раза два я ночевала у бабушки. Должно быть, у Эрика водились деньги, потому что, когда каникулы закончились, мы вдруг оказались в совсем другом доме, красивом и удобном, о котором я мечтала, но и заикнуться не могла.
Особенно преобразилась гостиная… то есть это мы с мамой так ее называли. Отец, когда еще жил с нами, говорил «большая комната», а бабушка – «зала». Когда-то здесь стоял телевизор, но, когда он сломался, новый мы решили не покупать и просто сидели тут вечерами: мама с компьютером, я – с планшетом. В праздники здесь ставили стол, хотя обычно ели на кухне. Иногда мы фантазировали, что неплохо бы ободрать обои и покрасить стены или занавески поменять, но всегда откладывали это на «потом», зная, что потом никогда не наступит.
Теперь наши мечты сбылись: оштукатуренные стены, новые мебель и люстра, мягкие бордовые шторы. И камин. Мы знали, конечно, что когда-то в углу была печка, которую – будь у нас желание и деньги – мы могли бы восстановить. Желание было, денег не хватало никогда, поэтому мы об этом даже и не мечтали.
Теперь камин красовался в углу, уже растопленный, – когда только Эрик успел? Вроде бы вместе в квартиру вошли, – на полке стояли стройные подсвечники и большущая керамическая маска.
– Ух ты! – удивилась мама. Подошла, потрогала глазурованную щеку и растерянно оглянулась. – Откуда она?
– Из кладовки! – ответил Эрик.
– Ага… Я думала, давно ее расколотила! – Мама не отрываясь смотрела на глиняную физиономию. – Помню, на курсах лепила. Ее еще в другую мастерскую на обжиг таскали, в нашей печка была мала.
Маска внимательно смотрела на маму, словно вспоминала подробности своего появления на свет и долгие месяцы в кладовке – пока наконец с нее не сорвали газету или не стерли пыль, если забыли закутать, и не водрузили на королевское место. Подсвечники тоже лепила мама, они удивительно подходили маске – скорее всего, потому что глазури в той учебной мастерской было не так уж много и покрывать творения приходилось одним и тем же. Я вспомнила, как мама жаловалась: такие замыслы, а приходится выкручиваться с двумя-тремя цветами.
– Ох как я хотела керамикой заняться, – пробормотала мама, – года два все собиралась и откладывала…
Маска ухмылялась во весь блестящий рот. У камина тоже был довольный вид – казалось, это он маскиным ртом улыбается.
Мы пили чай с пряниками, трепались о том о сем. Бармалей недоверчиво обнюхивал новые кресла, потом обнаглел и принялся точить когти – мы дружно цыкнули и рассмеялись.
Говорили о чем попало: о школе и работе, о новых фильмах и древних легендах. Это было неважно – нам нравилось так сидеть. Когда за окном сумерки, камин трещит, чай пахнет дымом и вообще мы все вместе. Потом оно каждый вечер так повторялось. Иногда мы смотрели кино на мамином компьютере – тоже новом, – но чаще просто разговаривали.