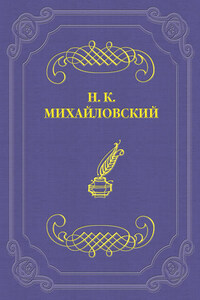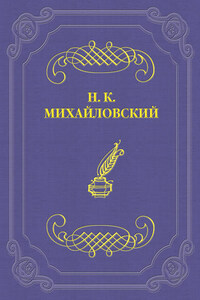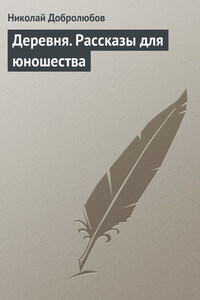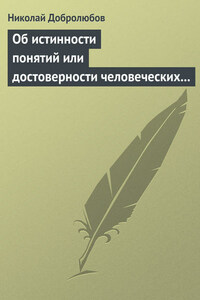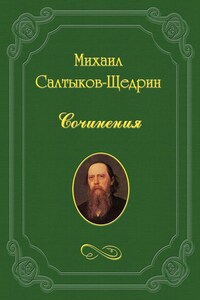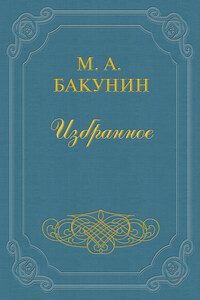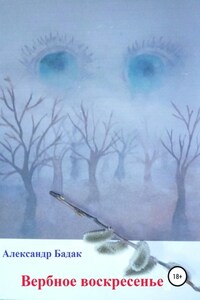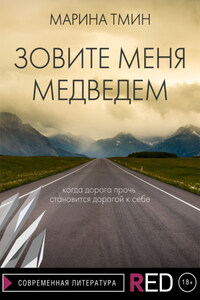Опять Достоевский>{1}.
Да, опять Достоевский, и, может быть, это повторится еще не раз. Не то чтобы Достоевский представлял собою один из тех центров русской умственной жизни, к которым критика должна волей-неволей часто возвращаться ввиду бьющего в них общего пульса. Есть люди, которые желали бы сделать из него нечто подобное; но, несмотря на старательность этих людей, принимающихся за свое дело с терпением дятла, ничего как-то из их усилий не выходит. Один г. Орест Миллер чего стоит! Он именно подобен дятлу, когда в своих статьях и публичных лекциях, им же несть меры и числа, восхваляет Достоевского, воздает хвалу Достоевскому, восторгается Достоевским, благовестит о Достоевском и восклицает: о Достоевский! Правда, этими склонениями и ограничивается роль г. О. Миллера как пропагандиста и комментатора, но все-таки подумайте, сколько тут вложено труда! А где результат? Более стремительный Владимир Соловьев действует наскоком. Мне попалась как-то литографированная речь или лекция г. Соловьева о знаменитом покойнике. Она была построена приблизительно так: в мире политическом данной страной управляет всегда в конце концов один человек; то же самое и в мире нравственном: здесь всегда есть один духовный вождь своего народа; этим единым вождем был для России Достоевский; Достоевский был пророк божий! Я ручаюсь за слова «пророк божий» и за конструкцию этих размышлений, если можно назвать размышлениями переправу по жердочкам и грациозные прыжки с одной жердочки на другую без всякой мысли о том, чтобы как-нибудь укрепить их и связать. Во всяком случае переправа выполнена, г. Соловьев на том берегу и торжественно и победоносно кричит: вот пророк божий! Где же результат? Я не только не вижу результата, а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашенного им пророка. Какие-то совсем другие люди занимают сцену, а «пророка божия» не поминают в своих молитвах даже те, кто так или иначе хотел примазаться к имени Достоевского на его свежей могиле. Погибе память его с шумом. Шуму было много, это правда, но в сущности шумом все и кончилось. Шум составился из двух течений. Во-первых, всегда есть плакальщики, люди, особенно умиленно настроенные или настраивающие себя, которые, вместо того чтобы серьезно и трезво отнестись к потере, начинают, по простонародному выражению, вопить и причитать: такой-сякой, сухой-немазаный. Это бы еще ничего, конечно, потому что ведь, может быть, покойник и в самом деле такой-сякой. Но надо все-таки же об этом хоть с приблизительною точностью дать себе отчет, а не разбрасывать сокровища своего умиления, что называется, зря. А то придется по прошествии некоторого времени умиляться по новому поводу, и притом так, что о предыдущем не будет даже помину. Так именно и произошло со многими по случаю смерти Достоевского. Но кроме таких умиленных, которых, собственно, мамка в детстве ушибла, почему с тех пор от них и отдает умилением, а чем и как умиляться – это им безразлично; кроме, говорю, этих, есть еще разные более или менее тонкие политиканы. Такие не зря умиляются, а примазываются к умилению и тоже в грудь себя колотят и тоже ризы свои раздирают, но единственно в тех видах, чтобы «поймать момент». А прошел момент, прошла и нужда. Достоевский в последнее время перед смертью изображал из себя какой-то оплот официальной мощи православного русского государства в связи (не совсем ясной и едва ли самому Достоевскому понятной) с некоторым мистически-народным элементом. Ну, кто пожелал, тот в этих направлениях и примазался к имени крупного художника, в самый момент смерти загоревшемуся таким, казалось, ярким огнем. Прошло несколько времени, и где же вы теперь найдете у гг. Аксакова, Каткова и иных следы их стенаний и разодранных на могиле Достоевского риз? Где те поучения, которые они черпают в трудных случаях из творений столь прославленного учителя? Я, впрочем, отнюдь их в этом не виню. Они виноваты только в том, что раздули или старались раздуть значение талантливого художника до размеров духовного вождя своей страны («пророка божия»). Но если облыжно созданный вождь никуда не ведет их, то это вполне натурально.
Для наглядности припомните, что происходило какой-нибудь месяц тому назад. Умер генерал Скобелев. Умер внезапно, будучи на верху почестей и популярности. Разумеется, явились плакальщики (впереди всех, как водится, г. Гайдебуров в должности церемониймейстера) и политиканы (впереди всех г. Аксаков, расчищая место генералу Черняеву и графу Игнатьеву поближе к траурному катафалку Скобелева). Пройдет несколько времени, и если нашу родину постигнет скорбь войны, все не раз вспомнят «белого генерала», даже те, кто по справедливости считал бестактными и детскими его парижские ораторские опыты: дескать, вот бы тут Скобелева нужно! Или: был бы Скобелев жив, так было бы то-то и то-то!
Конечно, будь белый генерал жив, может быть ему и счастье изменило бы, и разное другое могло случиться, но верно, что в случае войны его имя будет часто поминаться. Укажите же те трудные случаи, в которых сами плакальщики и политиканы, не говоря о простых смертных, вспомнили как бы с верою и надеждою о Достоевском: он бы выручил, он бы научил, показал свет! Ничего подобного не было, а со смерти Достоевского прошло только полтора года или, пожалуй, уже полтора года. Это время слишком короткое, чтобы забыть духовного вождя и божия пророка, и слишком продолжительное, чтобы не было случая со скорбным вздохом вспомнить о помощи, которую пророк оказал бы, если бы был жив. А припомните-ка, какие это были полтора года – волосы на голове дыбом встанут!
Но бог с ним, с этим вздором о роли Достоевского как духовного вождя русского народа и пророка. Этот вздор стоило отметить, но не стоит заниматься подробным его опровержением. Достоевский просто крупный и оригинальный писатель, достойный тщательного изучения и представляющий огромный литературный интерес. Только так изучать его мы и будем.
Тотчас после смерти Достоевского мы представили читателю беглую характеристику литературной физиономии покойника, предполагая с течением времени возвратиться к более подробному развитию некоторых частностей. Между прочим, было упомянуто, что к тому страстному возвеличению страдания, которым кончил Достоевский, его влекли три причины: уважение к существующему общему порядку, жажда личной проповеди и жестокость таланта. Этой последней чертой мы и предлагаем читателю теперь заняться. Второй и третий темы полного собрания сочинений Достоевского представляют для этого прекрасный повод. Здесь собраны небольшие повести и рассказы, из коих некоторые большинство читателей едва ли даже помнят, но которые, однако, для характеристики Достоевского представляют огромный интерес. Во второй том вошли: «Бедные люди», «Двойник», «Господин Прохарчин», «Роман в девяти письмах», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Чужая жена и муж под кроватью», «Честный вор», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Маленький герой»; в третий том «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Скверный анекдот», «Зимние заметки о летних впечатлениях», «Записки из подполья», «Крокодил или необыкновенное событие в пассаже», «Игрок». Все это вещи весьма различной художественной ценности и весьма различной известности. Кто не знает «Бедных людей»? Ну, а, например, рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» едва ли многие читали. И по всей справедливости не читали: рассказ плох. Но для нашей цели этот ничтожный рассказ может оказаться очень полезным и важным. В этих мелочах Достоевский остается все-таки Достоевским со всеми особенными силами и слабостями своего таланта и своего мышления. В них, в этих старых мелочах, можно найти задатки всех последующих образов, картин, идей, художественных и логических приемов Достоевского. И было бы в высшей степени интересно совершить эту операцию вполне, от начала до конца; то есть проследить всю, так сказать, литературную эмбриологию Достоевского. Но этой задачи мы на себя не берем и посмотрим только на те черты повестей и рассказов, вошедших во второй и третий томы, которые оправдывают заглавие предлагаемой статьи: жестокий талант.