«С раскрытой книгой дотемна»
С раскрытой книгой дотемна…
Зимой так трудно у окна
порой понять, который век
кружит над миром мокрый снег,
горит фонарь, гудят авто,
и жизнь со смертью визави,
и на твои слова любви
не отзывается никто.
Зимой у тёмного окна
с раскрытой книгой ты стоишь,
и сам себе ты говоришь,
что одиночества вина
страшней продажного стиха
и первородного греха,
что ты не в силах отгадать
хоть каплю смысла этих мук,
что счастье в прожитых годах
склевало время, как индюк,
что бесконечен мокрый снег,
что нет ни твари, ни Творца,
а есть усталый человек,
и есть бессмыслица конца…
И возле тёмного окна
ты закрываешь пухлый том
и натираешь докрасна
глаза о темень за окном,
стараясь лучше рассмотреть
судьбу, у бездны на краю,
но снова видишь только твердь
земную и небесную,
фонарь и мокрую пургу,
следы от галок на снегу, —
как клинопись вспорхнувшей жизни…
Приблизился, дрожа… Полдюжины овец
теснясь, таращатся бессмысленно-любовно.
Из очага льнёт дым к ногам, и словно
взбесился пёс от радости. Отец
чуть щурится, застыв в дверях безмолвно.
Молчит и он – вернувшийся беглец.
Что вспомнил он теперь – года веселья, блуда,
скитаний и мытарств в далёких городах?
Зачем он выбрал боль, зачем он выбрал страх,
исчезнул – в никуда, вернулся – ниоткуда?
Старик безмолвствует, ещё не веря в чудо,
а сын бросается к ногам его во прах,
боясь увидеть вновь в прищуренных глазах
любовь, которая гнала его отсюда.
Вначале были сны. И в снах
Был создан мир. И сном вовеки
Пребудет он, как в зеркалах
Стократно множась в человеке.
И в этом лабиринте некий
Мы ищем смысл. Находим страх.
Мир – сновидений вереница.
Стихии, звёзды, ход времён
Со мной растают – зыбкий сон, —
Чтоб вновь кому-нибудь присниться.
Так, сна не перейдя границу,
Творит миры Архитектон,
И, сном во сне заворожён,
Никак не может пробудиться.
«Во мне чужая жизнь живёт»
Во мне чужая жизнь живёт
И помнит – памятью моей —
Прохладу галилейских вод
Под тяжестью босых ступней,
Раскидистую тень олив,
Молитву кроткую в саду…
И, только этой жизнью жив,
Я по земле на крест иду.
Под рукою Творца
глина податлива, как
дева во вторую
ночь любви.
Под рукою Творца
холст становится небом,
расцвеченным
радугой Его глаз.
Под рукою Творца
звуки, словно пчёлы,
собирают в душе
горький мёд страстей.
Под рукою Творца
с сухим стуком
нанизываются слова
на чётки Вечности.
И даже Смерть, —
злобный пёс,
грызущий кость Забвения, —
лижет руку Творца.
Шесть дней не покладая рук
Трудился Плотник. На заре
Вставал и под весёлый стук
Он что-то строил во дворе.
Он сваи вбил, срубил помост
И чёрным бархатом покрыл.
Своей рукой он сонмы звёзд
На бархате изобразил.
Все получалось у него.
Соседи в голос, как один,
Превозносили мастерство
И опытность его седин.
… Но вот закончил. Вытер пот.
И Сын взошёл на эшафот.
Осенний сад застыл в преддверье листопада…
В узор ветвей притихших сумерки вплелись,
и тонкий аромат грядущего распада
таит в пучках травы уже чуть прелый лист.
Какая горькая прохлада! И какая
на всём печаль!.. По камертону тишины
настроив сердце, память извлекает
созвучья давних слов, предчувствия и сны.
И сладко мне стоять средь призраков манящих,
лелея в памяти бесплотный их улов,
и видеть, как сквозь ряд торжественный стволов
последний солнца луч уводит дальше в чащу, —
в Элизиум ночной, под тёмный свод ветвей,
дрожащую толпу ещё живых теней.
Бывает – ночью скрипнет дверь:
крадётся тихими шагами
безумие – пятнистый зверь
с бледно-лиловыми зрачками.
Движенья плавные легки.
Он припадает к изголовью,
и ромбовидные зрачки
его вскипают чёрной кровью.
От шкуры с крапинами звёзд
исходит тонкий запах тлена.
Он лижет руку мне, как пёс,
роняя на пол хлопья пены.
Но знаю: стоит мне вздохнуть,
иль взгляд лилово-водянистый
поймать – и прянет мне на грудь
безумие – мой зверь пятнистый!
В небе простуженном, снежном и мглистом,
в снежной и мглистой тоске твоих глаз,
помню: нездешняя, блеском лучистым,
блеском лучистым надежда зажглась.
В тихом сиянии том серебристом,
в том серебристом, окутавшем нас,
вечер доставил нас в синюю пристань,
в синюю пристань – полуночный час.
Всё растворяется в памяти мутной.
Но до сих пор этой грёзы минутной,
грёзы минутной забыть не могу:
словно в ту ночь, на балу сновидений
вижу я ангелов белые тени,
белые тени на чёрном снегу.
Прошу – сегодня не покинь!
Дождись – и час придёт:
начну молчать с любой строки,
что вдох мой оборвёт.
И вздрогнет каплей грустный сад.
Но ты его ветвей
не испугай. Он будет рад
несмелости твоей.
Застынь и вслушайся – ведь так
не в каждую же ночь
призывно-страшно дышит мрак,
что даже жить невмочь!
Бежать – куда? Ведь там стеной,
навеки плен суля,
уже скрепили сговор свой
с жасмином тополя.
Творец достал свои стихи,
сломав луны печать,
и мне теперь – с любой строки —
один исход: молчать.
«Я большей правды не ищу»
Я большей правды не ищу —
зерна, что зреет в борозде,
и, зная путь к своей звезде,
к другим дорогу не мощу.
Я верю, – в час, когда слежу
за вереницей птичьих стай, —
что, перейдя времён межу,
коснусь иных, нездешних тайн.
На колокольне уцелевшей,
в провинциальном городке,
сжимает кисти в кулаке
старик, от ветра посиневший.
Здесь все разгромлено… Так жалки
нагие ребра кирпичей!
И слышно сизых голубей
урчанье сытое на балке.
Внизу – проржавленные крыши
прикрыл подтаявший снежок.
Так мал старинный городок!
И почему-то сверху – ближе…
Демисезонное пальтишко
совсем не греет на ветру.
Да, годы, годы… Этот труд
задумал он ещё мальчишкой,
когда вот здесь, у парапета,
он вдруг впервые обомлел
от солнечных слепящих стрел, —
как будто с неба Ангел Света
сходил на землю. И невольно
то счастье вдох оборвало,
и небо в грудь ему вошло,
и сердцу стало сладко, больно…
Старик становится на ящик,
мешает краски; и слегка
дрожит озябшая рука,
касаясь кистью глаз скорбящих.
Гуляет ветер, сохнут лики.
А даль огромна и светла,
как скат высокого чела,
на коем он выводит блики.
Под лунный бубен так певуче
выводит смерть напев простой.
Душа летит звездой падучей
на этот зов в тиши ночной
и в пляске звёздного шамана
кружится, лёгкая, во мгле…
Как просыпаться утром странно
на безразличной ей земле!
Остывают тихие закаты,
гаснут в небе бледные просветы…
Это нам почудилось когда-то,
что мы жили во вселенной где-то.
Разве были – золотые травы?
Разве были – голубые воды?
Это только сладкая отрава,
наших снов безбрежная свобода.
Разве гулкий шум весенних ливней
в самом деле нами был подслушан?
Отчего ж сильней и неизбывней
с каждым днём тоскуют наши души,
слыша эти тающие звуки,
видя эти блекнущие тени?
Это только музыка разлуки
радугой размытых сновидений.
Ночь холодным, туманным челом
прислонилась устало к окну.
О, не прячься, мой маленький гном,
все равно я теперь не усну.

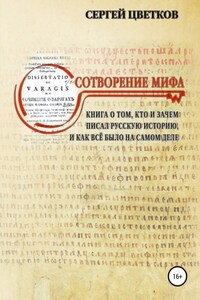
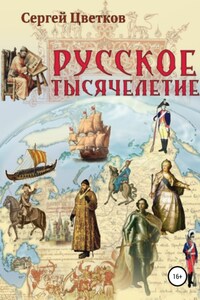
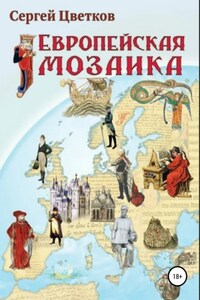

![Белая полоса. [счастливые тоже пишут стихи]](/uploads/covers/b2/b26158950b2c6a6770cc5b4aeb4077fc8e57b502.jpg)






