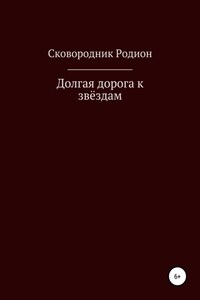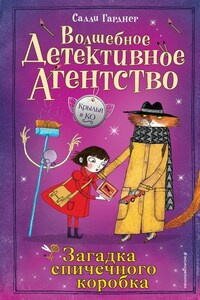Поэт и эссеист. Родился в 1968 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. В 2007 году в рамках фестиваля «Территория» избран королем поэтов. Был автором и ведущим программ о литературе на «Радио России» и радио «Культура»: «Записки неофита», «Своя колокольня», «Свободный вход», «Воскресная лапша». Вел авторскую программу «Тайные смыслы» на Общественном телевидении России.
Ведет программу на радио «Культура» «Поэтический минимум». Автор колонок в изданиях «Газета. ру», «Стори», «Литературная газета», «Учительская газета».
МОЛОКО
* * *
Я вижу так много людей,
чьи лица я помню,
но чьи имена забыл,
что лишний раз стараюсь их имена не трогать.
– Вы хоть кого-нибудь бы запомнили. Ну чисто для прикола.
– Ну вас же я помню, Маша.
– Я Саша.
Перебираю имена: одни теплые, другие шершавые, третьи – скользкие, обвились вокруг пальцев, вскрикнул, сразу же сбросил.)
Лицо лучше имени. Имя – это то, что дали тебе другие.
Лицо же ты носишь, и хотя тебе его тоже дали,
сплели свои нити:
нити на лицевой стороне ровные, красивые, никакие,
а в изнанке одни узелки, спутанные хотелки, разноцветные швы —
но оно хотя бы твое.
Где я?
Где та жизнь, которую мне обещали в детстве?
Где та страна, где я собирался жить?
Где тот отдел инженерный, где я собирался работать?
(Я и расчеты, точные цифры – отдельное униженье,
я даже документы и книги подписываю будущим годом.)
Что это там из тьмы ползет-доползает ко мне? Где я?
Что это за люди приходят ко мне,
брезгливо трогают мое тело?
Говорят: это уже все не то. Где я?
Где эта Гдея? гигантский суперматерик наподобье Гондваны с Пангеей.
(Где, где, где, где, где – если долго повторять это слово,
оно становится похожим на художника Ге или какого-то гада.)
…Однажды я был в Амстердаме, смотрел на любимого мною Ван Гога,
«Вороны над пшеничным полем»:
увидел в месиве застывших пастозных красок,
в самой точке по-детски написанной птички,
дырку от черенка кисти.
Видимо, Ван Гог в бессилье и в подползавшем к нему безумье
ударил им в еще не застывшую краску.
Вот мы и есть эта дырка в уже затвердевшей краске:
ущерб, причиненный картине,
укол, причиненный картине,
удар, нанесенный картине,
делают ее как раз совершенно бесценной.
Русский художник Николай Николаевич Ге (в этот момент входит в текст светящий ангел)
так отвечал на нападки прессы, что, дескать, Христос на одной картине выглядит недостойно:
«Не может человек, которого били всю ночь, походить на розу!»
Даже если нас не пытали, мы не можем быть похожи на розу.
Картина, в которой ты сходишь с ума, не должна быть похожа на розу.
Наше лицо не может проснуться с утра без вылезших вдруг из изнанки спутанных снов.
(В этот момент в мой подъезд входит светящийся ангел.)
Возьми мое имя, потрогай его, покрути так и сяк,
возьми меня за лицо, рассмотри все ущербы поближе:
я и тот мальчик, собиравшийся быть инженером, живем с тобой на разных планетах:
кто-то смеется тут по-английски, кто-то по-русски,
я английского не понимаю, поэтому вообще не смеюсь.
(В этот момент святящийся ангел уже на моем этаже.)
Где ты? Я видел так много людей,
что устал.
Где ты? Сходятся материки и опять разбегаются,
дырка в картине растет,
а у лифта – толпа.
То ли утро моих именин, то ли день моей смерти,
все люди, которых я когда-то забыл, кого поименно не помню,
с не разлепляемыми именами,
набились сюда, с чем-то меня поздравляют,
между собой говорят по-английски, французски, китайски, ивритски,
со мною – по-русски,
открывают бутылки,
говорят, что я белоснежный.
А потом я вдруг вижу тебя.
* * *
Сколько хотелось дач – снять на четыре сезона, увидеть весну, лето и осень
и немного зимы.
Так и не снял – ничего не увидел.
Где-то стоит мой чужой, хозяйский, на весну и на лето снятый плетеный стульчик;
над ним наливаются яблоки,
осенью падают вниз:
бум, стукает третье яблоко – прямо мне по башке:
«Эврика, – говорю, – я знаю, что делать с новой любовью».
Ничего.
Ровным счетом ничего.
Пусть такая и будет:
стоит в миске, в прохладном месте, наливается соком, потом, как молоко, подкисает,
становится сливками, после будет сметана.
Жизнь отсепарируется, да так, что и самого тебя отсепарирует,
отделит тебя от любви, от любимых, от кое-каких друзей,
отсепарирует от ненужных книжек,
от возраста,
от лишних – уже не по размеру – вещей.
…Ты говоришь: пора-пора, надо уже собираться.
Нет, это не возьмем, это тоже.
Паспорт можно оставить в комоде, вторые джинсы тебе не понадобятся,
мы все там тебе купим: золотые яблоки, белые облака,
будут тебе там молочные реки, кисельные берега.
Что говоришь? Не любишь молоко? Ну будут тебе кефирные реки.
Господи, какое счастье, что можно так долго ехать,
пять часов назад окинув прощальным взглядом свою уже нежилую комнату,
сколько же я был здесь счастлив, сколько несчастлив,
сколько раз равнодушен и сколько раз якобы просветлен.
Чух-чух-чух, говорят колеса. Входит проводница,
говорит: «Вообще-то вам полагается завтрак. Но я вам его не дам».
Ну и не надо.
Все эти сцены я видел уже когда-то. Просто я не знал, что это репетиция смерти.
А они это знали: и та проводница,
в вагоне которой я ехал из Нижнего Новгорода,
и та девочка, которая мне подарила на короткой остановке значок,
и тот парень, который посмотрел мне прямо в глаза, наклонился слишком близко ко мне
и сказал: «Выпить хочешь?»
Хочу. Я хочу выпить. Но ангел мне говорит:
«Помнишь, ты однажды забыл в самолете в верхнем отсеке полупустую сумку?
Вышел уже в зал прилета и вдруг хватился.
Звонил по специальному номеру, требовал сумку обратно.
Но тебе говорили: “Еще нет”. “Нет”. “Ее еще не принесли”.
Ты сидел тогда в поднебесном кафе, пил вино, писал по телефону (ты жил тогда не один):
“Мне еще не вынесли сумку”, смотрел на закрытую дверь.
Потом через час подошел к той же двери,
вызвонил по телефону, заветная дверца открылась, и та же сказавшая “нет” стюардесса сразу же вынесла сумку.
В общем, она уже там сразу была.
Просто им было лень с тобою возиться.
Но пока ты сидел битый час, как в чистилище,
не имея возможность уехать в Москву, ты чувствовал счастье».
Ясно, думаю я, сейчас мы будем чистить мои грехи.
* * *
Грех мой первый, мой серебряный,
кря-кря-кря да ко-ко-ко.
Помнишь? В кухне у Вермеера
наливали молоко.
Молоко лилось, завихриваясь. В белой чашке с голубым.
Было имя там написано. Имя странное Какдым.
Имя странное Какнебыло, имя Будтонесбылось.
Молоко, как лебедь белая, мимо чашки пролилось.
Стол заполнило с прорехами,
а потом, стянув бока,
пролилось и вниз поехало
занавесью молока.
Затопило кухню, по полу
потекло, как на Оке:
вся квартира, словно Серпухов,
утонула в молоке.
* * *
Люблю, как пахнут собаки во время дождя.