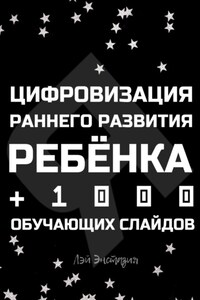Эта книга должна была быть написана в 2008 году и выглядеть совершенно иначе. В феврале того года «Гражданская оборона» завершила продолжительный гастрольный тур с альбомом «Зачем снятся сны». Егор Летов переехал в новую квартиру в Омске, немного пришел в себя и расставил диски по полкам. Мы давно уже собирались заняться некоей книжной историей, задумав большой сборник бесед обо всем на свете, включая диски на полках. Были определенные предварительные соображения, что-то мы даже записали во время моей первой поездки в Омск, но как-то все это глобально не могло начаться. 16 февраля он позвонил и сказал, что сейчас самое время взяться за книгу. Предложил, чтоб я поскорее приехал в Омск на сколь угодно долгий срок. «Заодно и про Янку все расскажу, как оно все на самом деле было, вот», – многозначительно добавил он на прощание. 19 февраля Летов умер во сне.
С той поры поступало немало предложений сочинить что-то на тему Егора и ГО, но я всякий раз отбрыкивался. Изначальная и единственная идея состояла в том, чтобы писать книжку С Летовым, а не ПРО него. Вынужденная смена ракурса представлялась мне несколько вероломной.
Почему вдруг теперь, 13 лет спустя, я взялся за эту историю? Мне приснился сон, в котором Летов со своими характерными задиристо-уклончивыми интонациями высказал мне примерно следующее: «Сколько можно копить и держать в себе? Ты уже старше меня самого, довольно ждать подсказок, все твои вопросы – они же и есть ответы, просто убери из них вопросительный знак, что тут вообще непонятного?»
Гете, как известно, рекомендовал не рассуждать о том, что когда-то произвело на тебя сильное впечатление. Это определенно мой случай с «Гражданской обороной». Поэтому я стараюсь описывать не столько само явление, сколько тот исключительный эффект, который оно в свое (в мое) время производило на распахнутое с юности сознание и, судя по некоторым признакам, продолжает производить.
Это не биография ни в малейшем смысле, а скорее попытка документального, местами слегка клинического свидетельства того, как жизнь способна меняться под влиянием набора песен. В рамках обостренной документальности я решил соблюсти принцип своеобразной догмы и говорить только с теми, кого непосредственно довелось встречать в последние тридцать лет. Иными словами, в этой книжке нет ни одного постановочного интервью.
Песни и стихи Егора Летова постепенно становятся предметом академического исследования. Его имя всплывает в контекстах, столь далеких от былой матерно-низовой славы, что впору усомниться в его подрывном погано-молодежном статусе: о нем все чаще рассуждают в терминах фоносемантики и теологии. Эта книжка, конечно, тоже грешит разными раскидистыми аллюзиями, и все же я стараюсь напоминать о том, что речь идет в первую очередь о панк-группе – пусть сколь угодно содержательной, перегруженной смыслами и переросшей свой стиль. Точнее, повторюсь, не о группе как таковой, но о психическом потрясении, вызванном ею, а в такой ситуации любой внутренний опыт обладает равной ценностью со сколь угодно тщательной статистикой и фактографией. В силу своего панковского происхождения эти внутренние опыты могут отличаться изрядной степенью помраченности.
Вот, например, типичный разговор со старым рок-н-ролльным товарищем: «Ты был на том знаменитом концерте в МЭИ в феврале 1990 года?» Ответ: «Был». Я: «И?» Он: «Смутно помню, пил из горла с кем-то, то ли с Колей Рок-н-роллом, то ли с гитаристом Летова. Потом уснул в гримерке. На меня накидали кучу одежды. Я проснулся и пошевелиться не могу. Подумал, все, пиздец, я помер и в аду. Вокруг голоса глухие раздаются. Я попытался заорать, типа помогите. Где-то минут через пять меня откопали и ржали еще минут пятнадцать. В итоге я вылез, мне налили… и провал снова».
В этой книге достаточно подобных провалов – она напоминает коллаж, вроде тех, которыми Летов украшал свои пластинки. Драматического писателя, как известно, следует судить по законам, им самим над собою признанным. Что ж, Е. Л. – писатель, несомненно, драматический, а когда его упрекали в определенных нестыковках или коллажной же подтасовке фактов, он любил повторять: «Зато так красивее». Пожалуй, этот принцип и лежит в основе книжки – учитывая, что красота в понимании Егора Летова всегда меняет явки, всегда остается красочно непонятной, всегда бежит далеко-далеко, без оглядки далеко-далеко.
И провал снова.
Еще была чистая река, которая текла, никого не таясь и так стремительно, словно дело происходит в высокогорной местности. В детстве я особенно любил один дикий отрезок русла: если пойти вверх по реке (течет она с севера на юг) в правую сторону от пляжа, то метров через триста обнаруживалось место, где дно густо заросло водорослями и они вились, как волосы утопленницы. Зачарованный трепетом подводной травы, тогда, в 1983-м, я еще не догадывался, что утопленниц сплошь и рядом называют Офелиями – в картинах, драмах и даже песнях. Мне было ведомо только имя речки – Пехорка. Течение в ней всегда было довольно ураганное. Мой старший товарищ Борис Николаевич Симонов, хозяин пластиночного магазина «Трансильвания», рассказывал потом, как в детстве, летом 1960 года, тонул в Пехорке: «Тонул, но спас замминистра какого-то строительства, Николай Иванович, муж сестры моей бабушки. Как раз в день запуска на орбиту собачек – Белки и Стрелки, после моего дня рождения. Подарок не удался. Помню, как на дне я смотрел вверх и видел дрожащий сквозь толщу воды солнечный диск. И было так хорошо и спокойно… Но выдернули, пришлось заниматься черт знает чем следующие 59 лет».
Тема ухода с поверхности вообще характерна для этих мест – существовало, в частности, предание, что один из здешних прудов образовался, когда церковь со всем священнослужительским персоналом провалилась под землю прямо в процессе обряда венчания. Пехорка протекает через поселок под названием Красково. Родители снимали здесь одну и ту же дачу, у железной дороги, каждое лето с конца 1970-х и примерно до прихода Горбачева. Посреди участка росла большая голубая ель, а старый запущенный дом с запыленным солнечным чердаком окружали кусты смородины и колонии рыжих муравьев.
Красково – место с историей: тут проживали Чехов, Горький, Гиляровский, а в 1919 году группа из семи анархистов совершила самоподрыв на одной из дач. С 1961 года – ровно после инцидента с тонущим в реке Симоновым – Красково получило статус поселка городского типа.
В прохладное андроповское лето 1983 года по моим детским меркам ничего сокрушительного не происходило: по телевизору показывали шведский мультфильм про Бамси, самого сильного медведя в мире, и в который раз крутили «Четырех танкистов и собаку». Мама ездила с дачи в Москву на кинофестиваль смотреть фильм «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю» с Альберто Сорди и Моникой Витти. В дождливые дни слушали «Римскую империю времени упадка» Окуджавы, а вечерами смотрели фильм «Карусель» с Нееловой и Будрайтисом. На участке росли орехи и вишни, в подвале жила значительных размеров крыса – иногда она выходила на кухню. Возле Пехорки пасся огромный бык, которого почему-то назвали Мишкой. Я носился по берегам и полянам с самодельным сачком в поисках бабочек. Их в Красково было не то чтоб много, поэтому я в основном штудировал тяжелый чешский том «Иллюстрированной энциклопедии насекомых», на фоне которого энтомологический материал Подмосковья казался бледной копией жизни. Но в том году мне удалось поймать довольно редкую для этой местности переливницу. К нам на участок залетел пчелиный рой, и бабочка, покружив немного, уселась прямо на него. Чтоб не растревожить пчел, я попробовал аккуратно зачерпнуть ее сачком, но вышло слишком неловко и я сломал ей крыло.