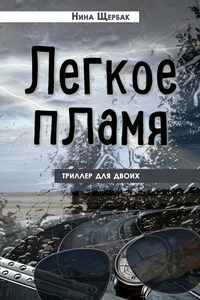Ранним сентябрьским утром Григорий Михайлович Круглов – командир второго эскадрона кавалерийского дивизиона 29-й стрелковой дивизии – стоял на разбитой Гражданской войной улице освобожденного в середине лета города N. Еще вчера, трясясь в прогнившей насквозь теплушке, он мысленно клял все на свете: отправить его, боевого командира, в тыл, да еще в самый разгар наступления – это казалось ему верхом бессмыслицы, чуть ли не вредительством! Однако, сойдя на знакомый перрон изрешеченного пулями вокзала, он неожиданно приободрился. То ли от воспоминаний о недавних боях за город, то ли от гордости, что именно его, Григория Круглова, эскадрон первым ворвался на изрыгающие сонмы свинца и стали улицы, то ли от внезапно рассеявшегося над ним неба и сверкнувших лучей осеннего солнца – только на душе комэска, словно после трудной, но хорошо сделанной работы, стало светло и покойно. «Ничего, повоюем еще, матросы-папиросы!» – ухмыльнулся он, глубоко, всей грудью вдохнул свежий воздух, повел ладонью по густым черным усам и, забросив на плечо вещмешок, уверенно зашагал к выходу. Спрашивать дорогу ему было незачем – и воевал здесь, да и бывал раньше, еще до революции, так что хорошо знал улицу, на которой, как ему объяснили в штабе дивизии, разместилось губернское Чека: туда он и должен был явиться по прибытии.
Круглов шагал бодро, широко. Мерно бились о голенища истоптанных сапог длинные полы видавшей виды шинели; натертые о конские бока шпоры, точно такты парадного марша, звонко отбивали по мостовой каждый размашистый шаг, и шашка на левом боку приятно холодила придерживающую ее руку. Он на ходу рассматривал дома – серые, мрачные, подчас до основания разрушенные, пытался понять, живет ли в них кто еще или нет и, удивляясь пустынности некогда шумного города, проходил дальше.
Но постепенно, казалось, вымерший город стал оживать. В узких проулках, словно тени, замелькали первые прохожие; навстречу, обойдя его по сторонам, прошлепали двое рабочих, незлобно перебрасываясь матерными фразами; впереди, слева, из подъезда обшарпанного дома, вышла старушка в выцветшем платке и темном, в заплатах сюртуке, волоча за собой набитый чем-то мешок… Отдышавшись, она попыталась забросить мешок на спину, но не сумела. Круглов, не сбавляя шага, перешел улицу, приблизился и на ходу закинул ношу на дряхлые плечи. Старуха от неожиданности крякнула и беззубо прошепелявила:
– Дай бог здоровья, шынок!
– И тебе не хворать, мамаша! – не оборачиваясь, бросил Круглов.
Потом по мостовой, гремя, протащились одна за другой две повозки, запряженные заезженными, ужасно похожими друг на друга клячами. Возничий первой из них – сморщенный старичок в фуфайке, – хлестнул клячу вожжами и смачно, с удовольствием выругался.
Неожиданно, сквозь грохот колес прорвались разухабистые аккорды гармошки. Круглов остановился, прислушался, затем залихватски поправил ручищей крохотную фуражку с коротким козырьком и красной звездой на околыше и решительно свернул в ближайший проулок – хоть и не по пути, да весело!
Одноногий, в солдатской гимнастерке музыкант сидел невдалеке, на крыльце, морща на солнышке и без того мятое от похмелья лицо, и размашисто терзал мехи потертой гармошки. Завидя красноармейца, он весело подмигнул ему и вдруг заглушил собственную музыку разухабистой частушкой:
Эх ты, цветик мой,
Цветик маковый,
Ты скорей, Колчак,
Отколчакивай…
Круглов заулыбался, сверкнув двумя рядами крепких зубов, и, не останавливаясь, кивнул одноногому:
– Матросы-папиросы! Граждан разбудишь, сатана!
Гармонист, не переставая наигрывать, прокричал в ответ:
– А нехай встають, мать их в дышло! Неча бока мять!
– Ну-ну, – засмеялся комэска, удаляясь под звуки пьяной гармошки.
Здание бывшего путевого дворца Круглов узнал сразу. Несмотря на обветшалый фасад, в ряду ютящихся рядом одноэтажных домов он выделялся своими трехъярусными размерами и пятью квадратными колоннами у парадного подъезда. Между колоннами, у входа, высилась фигура молоденького постового в кожаной, истертой до белизны тужурке, туго перетянутой солдатским ремнем. На голове топорщилась выцветшая армейская фуражка; на бедре, словно прилипшая, пузырилась кобура нагана.
Постовой вопросительно поднял голову, когда проходящий мимо военный неожиданно свернул в тень колонн.
– Куда? – недовольно буркнул он, загораживая проход.
Круглов приблизился:
– Губчека?
– Хотя бы и так, – не опуская головы, протянул парень, словно давая понять, что это не место для праздного любопытства.
– Мне к товарищу Брюсу. Вот бумага.
Круглов вытащил из внутреннего кармана шинели листок и, развернув, протянул охраннику. Тот поднес документ к глазам, медленно, по слогам, прочел содержимое, затем внимательно посмотрел на комэска:
– Документы есть?
Круглов протянул еще одну бумагу. Парень вновь прочел все, что было написано в ней, важно свернул листки и вернул хозяину:
– Проходи, товарищ Круглов! Товарищ Брюс на втором этаже, третья дверь слева.
В приемной начальника отдела Губчека, за широким дубовым столом, склонившись, сидел краснощекий юноша в старенькой, но аккуратно выглаженной гимнастерке. Когда Круглов вошел, парень, тряхнув русым чубом, поднял голову. Комэска поразило его лицо – по-юношески красивое, приятное и в то же время до чрезвычайности непроницаемое и не по летам серьезное, почти каменное. Круглов даже почувствовал легкое замешательство, когда из-под этой маски вдруг сверкнули живые глаза и пронзили его изучающим взглядом серых глаз.
– Вы к кому, товарищ? – пробасил хрипловатый голос, никак не соответствующий юной наружности парня. Круглов быстро пришел в себя, крякнул и, злясь на свою минутную слабость, громко объявил:
– К товарищу Брюсу. Вот телеграмма и удостоверение. Меня вызвали с фронта.
Парень, мельком взглянув на протянутые бумаги, коротко, словно допрашивая, прохрипел:
– Круглов Григорий Михайлович?
– Он самый…
Парень с минуту разглядывал посетителя и уже мягче, но по-прежнему протокольно объявил:
– Товарищ Брюс на совещании. Раздевайтесь и подождите. Совещание закончится с минуты на минуту.
Круглов огляделся, нашел позади себя, в углу, вешалку и, скинув с плеча мешок, разделся. Подпоясал шашку, повернулся и вопросительно посмотрел на парня – что дальше?
– Присаживайтесь. Вас скоро примут, – сухо сказал парень, кивнул на стул и вновь склонился над столом.
Прошло пятнадцать минут. Непривычная для боевого командира кабинетная тишина стала раздражать. Вновь поползли мысли, которые не давали покоя в теплушке: «На черта вызвали? Скоро Тагил брать, а эти в тылу…» Круглова даже передернуло. Он недобро посмотрел на неразговорчивого секретаря.