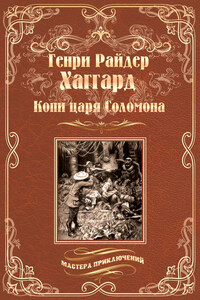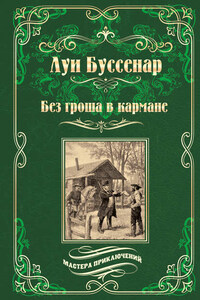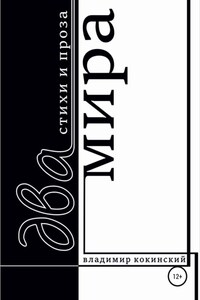«… пребываем ныне в полнейшем упадке, и те, кто прежде чтил нас, теперь нами пренебрегают. Самое имя „испанец“, некогда приводившее в трепет весь мир, ныне по грехам нашим едва ли не вовсе утрачено нами…»
Я закрыл книгу и взглянул туда, куда глядели все. Штиль продержался несколько часов, но вот восточный ветер зашумел в парусах и погнал галеон «Иисус Назарей» в бухту. Столпясь на борту под сенью парусов, солдаты и моряки указывали друг другу на трупы англичан, очень мило болтавшиеся в петлях под стенами замка Санта-Каталина или вдоль берега, на границе с виноградниками. Висельники казались гроздями винограда, ожидавшими сбора, – с той лишь разницей, что для них сбор уже сыграли.
– Собаки, – высказался, сплюнув за борт, Курро Гарроте.
Как и у всех у нас, его сальные грязные волосы кишели вшами: немудрено – воды на корабле, взявшем на борт ветеранов фламандской кампании, было в обрез, мыла еще меньше, плаванье же от Дюнкерка до Лиссабона длилось пять недель. Курро то и дело с досадой ощупывал свою левую руку, сильно попорченную англичанами при взятии редута Терхейден, и с видом полнейшего удовлетворения поглядывал туда, где на отмели Сан-Себастьяна перед маяком дымились останки корабля: граф Лекст погрузил на него столько убитых, сколько смог собрать, после чего поспешно убрался восвояси.
– Поделом им, – заметил кто-то.
– Жаль, без нас обошлось, – припечатал Курро. Видно было, что ему самому до смерти хотелось бы развесить эти гроздья. Ибо неделю назад в Кадис на ста пяти боевых кораблях явились десять тысяч англичан и голландцев в наглом сознании своего могущества, преисполненные решимости разграбить город, сжечь нашу эскадру, стоявшую в гавани, и захватить прибывающие из Бразилии и Новой Испании галеоны с золотом. Позднее наш великий Лопе де Вега сочинил о сем намерении свой знаменитый сонет, вставив его в комедию «Девушка с кувшином»:
Обманом дерзостным сумел негодный брит
Ко льву кастильскому вползти в его обитель…
Так что этот самый Лекст, истый представитель пиратской своей нации по жестокости и коварству, лице– и высокомерию, явился – и захватил форт Пунталь. Юный английский король Карл Первый и его министр Бекингем еще не позабыли, какой прием был им оказан в Мадриде, куда Стюарт разлетелся свататься к нашей инфанте: как морочили им голову отговорками и проволочками, как допрежь того – при посредстве, если помните, капитана Алатристе и Гвальтерио Малатесты – едва не провертели в них лишних дырочек, как пришлось принцу и его фавориту воротиться в Лондон ни с чем. Но история тридцатилетней давности, когда войска Эссекса взяли и разграбили Кадис, на сей раз не повторилась – Господь не попустил: наши организовали неприступную оборону, к солдатам с галер герцога Фернандины присоединились жители соседних Чиклана, Медина-Сидонии и Вехера, и все они вкупе с гарнизоном Кадиса дали англичанам отпор столь сокрушительный, что от затеи своей, обошедшейся им большой кровью, те принуждены были отказаться. Лекст, понеся большие потери, ни на шаг не продвинувшись, спешно погрузил своих разбойников на корабли, ибо узнал, что вместо галеонов, груженых золотом и серебром из Индий, предстоит ему встреча с эскадрой в составе шести крупных и скольких-то малых кораблей под испанскими и португальскими флагами – напомню вам, что в ту пору, тщанием блаженной памяти короля Филиппа Второго, была у нас с португальцами общая империя и враги тоже были общие; каковые корабли, помимо сильной артиллерии, имели на борту матерых вояк, всяких видов навидавшихся во Фландрии, а ныне уволенных в отпуск или в отставку. И наш адмирал, в лиссабонской гавани прослышав о новой каверзе англичан, помчался в Кадис во всю прыть, дабы поспеть вовремя.
Однако не поспел. Сейчас паруса неприятельской флотилии превратились в едва различимые на горизонте белые пятнышки. Мы разминулись с еретиками: накануне днем они поспешили убраться восвояси, не сумев повторить успех пятьсот девяносто шестого года, когда спалили дотла Кадис и даже вывезли книги из тамошних библиотек. Дело известное – англичане без устали похваляются разгромом нашей Армады, оказавшейся не столь уж непобедимой, тычут всем в нос подвиги своего графа Эссекса, но осрамившись – помалкивают. А без сраму не обходится, ибо злосчастный наш и старый испанский лев, со всех сторон окруженный врагами, которые всегда не прочь обмакнуть мякиш в нашу подливку хоть и клонился к упадку, хоть и дряхлел день ото дня, еще сохранял клыки и когти и не отдал бы свою шкуру задешево, а заставил бы потрудиться всяческих стервятников в лице торгашей-англичан, коим еретическая их, двуличная, не иначе как самим сатаной порожденная вера позволяет совмещать богобоязненность и корыстолюбие, набожность и безбожную алчбу до того легко и просто, что и распоследний ворюга может считаться почтенным представителем одной из свободных профессий. Послушать их историков, так мы, испанцы, воюем и порабощаем людей, движимые фанатизмом, жадностью и высокомерием, а все прочие нации грабят и гробят ближнего, продают его с потрохами или выпускают ему кишки исключительно ради торжества свободы, справедливости и прогресса. Ну ладно, это я отвлекся. Короче говоря, в сей приснопамятный день англичане лишились в Кадисе тридцати кораблей, покрыли знамена свои позором, понесли большие потери убитыми и ранеными в бою, не считая тех, кто напился пьян, отстал, попал в плен и был нашими беспощадно вздернут на крепостных стенах или в виноградниках. В тот раз сучьей этой своре затея ее вышла боком.
За башнями фортов, за виноградниками виднелся город – белые дома и высокие колокольни, похожие на сторожевые вышки. Мы обогнули бастион Сан-Фелипе и оказались прямехонько перед гаванью, принюхиваясь к дыму отечества, как ослы – к сену. Крепостные орудия встретили нас салютом, и наши отозвались им во всю мочь своих бронзовых глоток. Убрали паруса, приготовились отдать якорь. Матросы взлетели на ванты, я спрятал в свой заплечный мешок «Гусмана из Альфараче»,[1] купленный моим хозяином в Антверпене для препровождения времени в пути, и подошел к стоявшим на шкафуте[2] Алатристе и прочим. Почти все пребывали в радостном возбуждении от близости берега, от того, что позади осталось плаванье со всеми своими прелестями вроде встречных ветров, грозящих шваркнуть корабль о береговые рифы, выворачивающей нутро качки, валянья на заблеванной палубе, сырости, тухлой воды – да и той давали по кружке в день, – сухих бобов и червивых сухарей. Уж на что незавидна жизнь солдата на суше, но во сто крат тяжелее она в море, ибо захоти Господь, чтобы там влачили мы свой век, он снабдил бы нас вместо рук и ног плавниками.