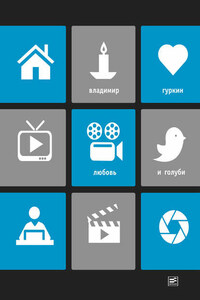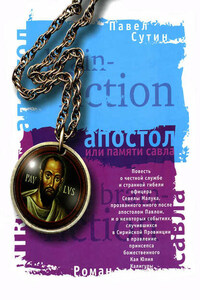В половине девятого по волнистой, в глубоких трещинах, асфальтированной дорожке, между кряжистых вязов проехал новенький ПАЗ с табличкой «Ритуальный». Начинался больничный день, в административный корпус сходились старшие сестры со стопками историй болезни, через полчаса у морга предстояло выстроиться веренице таких ПАЗов. В патанатомии повизгивали по мелкой желтой плитке колесики каталок, цокали женские каблуки, в коридоре курил хлыщеватый молодой санитар с пирсингом. Накрашенная медсестра открыла дверь в ординаторскую и сказала:
– Дмитрий Саныч, ну скоро?
* * *
Браверманн вошел в ординаторскую, сел за стол и кивнул Хлебову, своему старшему ординатору: начинай. Тот доложил семидесятилетнего народного артиста с раком простаты и студентку с опухолью надпочечника, а ординатор второго года – слесаря из Шатуры с гигантской многокамерной кистой левой почки. Браверманн свою операцию перепоручил Хлебову и быстро закончил конференцию, можно сказать, скомкал.
Браверманн заведовал онкоурологией шестой год, докторскую защитил в тридцать четыре, опубликовал две монографии и статей без числа. Был он толстым, низкорослым, облысел еще в институте, не водил машину и не читал беллетристику. Близкие друзья звали его «Бравик», но надо сказать, что при взгляде на его дряблое, обрюзгшее лицо трудно было представить, что у этого человека вообще есть друзья.
Он ушел в кабинет, достал из ящика стола початую пачку «Мальборо» и какое-то время, сопя, смотрел на нее. Его первый шеф сказал ему в восемьдесят восьмом: лучше не кури, я вот двадцать восемь лет курил, а потом стал свое дыхание в лифте слышать – и бросил.
Постучав, вошел Хлебов, спросил осторожно:
– Что-то случилось?
– Я сейчас уеду, у меня срочные дела. К трем вернусь. – Бравик сел и стал, кряхтя, надевать полуботинки. – Ты как составлял график? Почему Голованов идет в третью очередь? Почему у тебя человека с диабетом подают в операционную в третью очередь?!
График он исправил еще позавчера, и тогда же выговорил Хлебову.
– Голованова первым подают, – сказал Хлебов. – У вас дома что-то?
– Безобразие, безобразие… Больной с диабетом…
– Может, такси вызвать?
– Не надо. – Бравик встал и снял с плечиков пиджак. – Гулидов будет нефрэктомию делать – так ты ему помоги. Я к трем вернусь.
* * *
Молоточки пишущей машинки «Оливетти» мягко отщелкивали:
поступил в 1-е травматологическое отделение ГКБ № 15 в экстренном порядке 13.05.2009
В ординаторскую опять заглянула сестра.
– Дмитрий Саныч!
– Да-да, заканчиваю…
констатирована в 5 ч. 35 мин. При патологоанатомическом исследовании
– Только ваше заключение осталось.
– Не зуди под руку.
разрыв селезенки. Разрыв диафрагмы. Компрессионный перелом второго грудного позвонка, перелом основания черепа
За стеной два санитара уложили в гроб труп в черном полиэтилене.
Патологоанатом выдернул из валика заключение, подписал и протянул сестре.
– Держи.
* * *
Геннадий Валерьевич Сергеев, прозаик, «мастер психологических этюдов», как написали про него когда-то в «Большом городе», вышел за руку с сыном из подъезда. Сергеев в свои сорок два был строен, хоть и немного подзаплыли плечи и угадывался живот. Лицо у него было спокойное, солидное, оно и в ранней юности было таким же: голубые глаза чуть навыкате, короткие рыжеватые волосы, большой лоб, залысины, губы, о которых принято говорить «чувственные», и подбородок с желобком. Гена с Васеном опаздывали в садик, с минуты на минуту начиналась зарядка. Васен сегодня прокопался, укладывал в пластиковый пакет аппликацию, над которой вчера корпел до одиннадцати, потом искали чешки, потом выяснилось, что Васен не почистил зубы.
– Пап, в выходные к Никону на дачу поедем? Ты говорил, что поедем.
– Не к Никону, а к «дяде Никону». Не надо фамильярничать со взрослыми.
Васен вытащил ладошку из отцовской руки. Когда подошли к садику, он спросил:
– А Бравик поедет?
Он еще не умел долго обижаться.
– Не Бравик, а «дядя Бравик».
– А Гаривас?
– Зайка, топай быстрее, – сказал Гена, – уже зарядка началась.
* * *
Майор Александр Анатольевич Лобода – мосластый, темноволосый, в прошлом боксер-средневес – был опер потомственный, его отец пришел в угро с фронта, в двадцать три, как Володя Шарапов. Лобода окончил омскую «вышку», работал на земле, в ОБХСС, по карманникам, а последние три года на Петровке. Характер у него был отцовский, прямолинейный, оттого-то, наверное, Лобода до сих пор ходил в майорах.
На Петровке стояла плотная пробка, недалеко от проходной маршрутка притерла «Волгу». Беззвучно переливался бело-красно-фиолетовый фонарь гаишной машины. Инспектор, положив папку на капот, писал протокол. Лобода пошел к Страстному и столкнулся с Карякиным. Тот перехватил кейс в правую руку, посмотрел на часы.
– Ты куда это?
– К-к-константин Андреич, мне отъехать надо, – сказал Лобода. – Вернусь к-к-к обеду.
– У Щукина день рождения, – напомнил Карякин.
– Мы ему б-б-бензопилу купили. – Лобода поискал по карманам сигареты. – Хорошая п-п-пила, шведская… Я к трем б-б-буду.
– В час совещание у Смоковникова. А ты куда?
– На п-п-похороны. – Лобода, вытряхнул сигарету из смятой пачки, зажал в углу рта, стал искать по карманам зажигалку. – К-к-к трем вернусь.
– Родственник? – участливо спросил Карякин и поднес Лободе зажигалку.
– Т-т-товарищ.
– Болен был?
– На м-м-машине разбился.
– Молодой?
– М-м-мой ровесник.
– Сань, ну, я сочувствую… Он сотрудник?
– Н-н-нет.
– Ты поезжай. Я что-нибудь придумаю, если Смоковников спросит. Эх… – Карякин вздохнул. – Мы тут с женой осенью были в Австрии, зашли как-то на кладбище. Католическое кладбище, красивое – мрамор, распятия… Так я обратил внимание: почти всем под девяносто. А у нас, ёкалэмэнэ, на кладбищах сплошная молодежь.
* * *
Владимир Астафьевич Никоненко вел видавшую виды «восьмерку» по Волоколамке. Внешность он имел примечательную: сто девяносто два сантиметра, сто три килограмма, литые плечи, небольшая круглая голова, короткий прямой нос и стальные глаза. Друзья звали его Никон. В восемьдесят пятом, на уборочной, Никон, Гена, Гаривас и Бравик вечером пили вермут «Вишневый» и развлекались, подбирая друг другу описания из трех книжек, которые взяли с собой. Гена посвятил Бравику синдром Кляйнфельтера из справочника по андрологии, Никон зачитал Гаривасу что-то орлиноносое из Купера, Гаривас же раскрыл О. Генри и нашел про Никона такое: «большой, вежливый, опасный, как пулемет».
Зазвонил телефон, Никон сказал:
– Слушаю… Здравствуй… Нет, ты не успеешь, не рви сердце. Тебе сюда десять часов лету. Мы похороним его, а ты там за его память выпей… Ольга-то? Ольга как Ольга. Нормально держится Ольга, без истерик. Витьке сочинили что-то: командировка, работа. На год, короче, папа уехал.