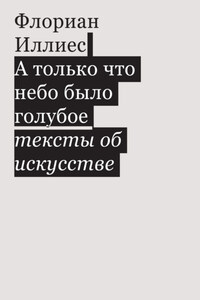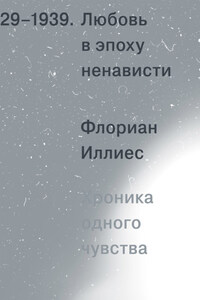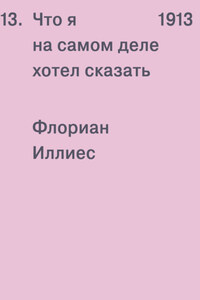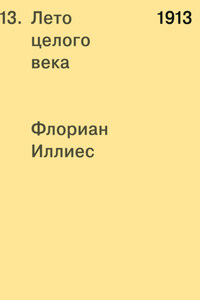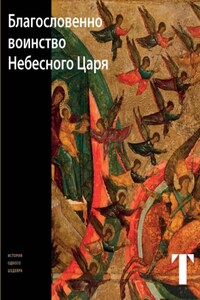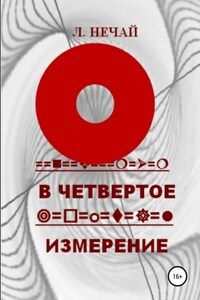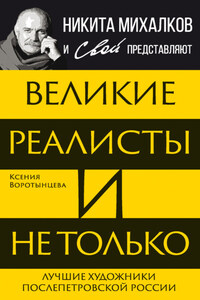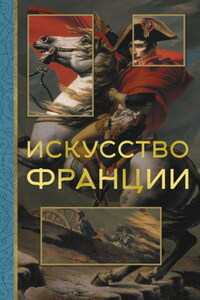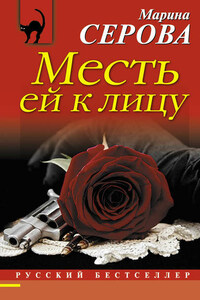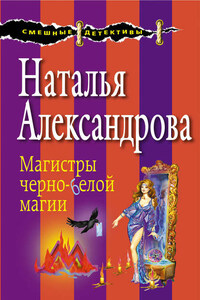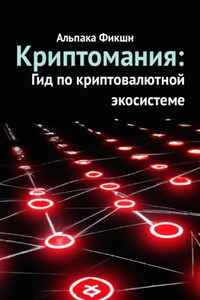Юлиус Мейер-Грефе. Немецкий язык как искусство
Юлиус Мейер-Грефе. Три слова, но один смысл. Все время, пока я изучал историю искусств в университете, я боялся его книг как огня, я знал, что в них скрыто что-то такое, что и спустя сто лет после написания обладает опасной взрывной силой. В нем чувствуется что-то по-барочному необузданное, ненаучное, слегка несерьезное. Например, его манера пользоваться сносками не для избыточных ссылок на литературные источники, а для рассказов о личных встречах с художниками, о которых он пишет.
Но всякий раз, когда я пытался дочитать его искусствоведческую диссертацию, которую он защищал в Бохуме, моя голова начинала пухнуть, руки мои тянулись к его книжкам о Мане, Курбе, Делакруа из карманной серии издательства «Insel», к его «Истории развития современного искусства», и стоило мне прочитать всего несколько слов, как я оказывался во власти его магии. Я знал, что его имя было почти под запретом в наших аудиториях, где царили строгие нормы академической гигиены и закон о чистоте немецкой науки. Поэтому-то меня к нему и тянуло. Ведь там, где царит такое отторжение, царит страх. Именно он уже почти сто пятьдесят лет определяет взгляд на Юлиуса Мейер-Грефе.
И я даже решил, что Юлиус Мейер-Грефе будет темой моей искусствоведческой диссертации. В лице Ханса Бельтинга [1] я встретил смелого и любознательного научного руководителя – но потом вдруг случилось нечто странное. Как я ни старался, с какой стороны ни заходил, у меня не получалось втиснуть вселенную Юлиуса Мейер-Грефе в сухую прозу тезисов будущей диссертации. Я все время невольно поддавался необыкновенному, захватывающему стаккато его фраз, все время приходил в восторг от его способности к экспертному суждению, но при этом не имел ни малейшего представления о том, как с Юлиусом Мейер-Грефе может совладать какая-то докторская диссертация. Совсем недавно, спустя двадцать лет, я опять перелистывал свои старые, боннских времен, книжки карманной серии «Insel» и нашел вложенные в одну из них письма Катерины Крамер, которая заново открыла Мейер-Грефе; в этих письмах она давала мне советы, как лучше встроить нашего героя в нормальную немецкую диссертацию. Но все без толку. До написания диссертации дело так и не дошло, потому что я споткнулся уже на тезисах. Довольно логично, что я начал писать об искусстве в газете «Frankfurter Allgemeine» – чтобы приблизиться к своему кумиру если не через экзегезу, то хотя бы через парафраз.
Надеюсь, вы уже заметили, что я только делаю вид, что рассказываю о себе. Мне бы и в голову не пришло утомлять вас подробностями своей биографии, я знаю, что в этом вопросе академический принцип чистоты тоже безжалостен. На самом же деле я хочу показать, как непросто приблизиться к языку Юлиуса Мейер-Грефе со своим языком и со своей наукой. Я полагаю, это связано с тем, что его немецкий язык был еще очень близок к языку лютеровского перевода Библии. И дело тут не только в языке, настолько же барочном, насколько и ясном, дело в той неопровержимости, в ветхозаветности, которую мы чувствуем в суждениях Мейер-Грефе. И об этом невозможно написать докторскую диссертацию; возможно, это был бы и вовсе, выражаясь его языком, грех.
Наверное, не менее наивно рассчитывать и на то, чтобы выступить на эту тему с торжественной речью. Ведь тогда пришлось бы мериться с ним силами на сугубо речевом уровне. Впрочем, у такого варианта есть и плюсы: можно напрямую цитировать самого Юлиуса Мейер-Грефе и через цитирование встроить его словесную мощь в свой вордовский файл. Однако цитирование – это всегда акт насилия: оно вырывает фрагмент из структуры, представляющей собой целостность. А «целостность» – не только важнейшая категория Мейер-Грефе при оценке произведения искусства («…у него можно поучиться тому, что значит подлинная целостность», писал он о Менцеле), его собственные тексты в напечатанном виде являются прочным массивом, неразложимым на отдельные составляющие. На первый взгляд это кажется удивительным, потому что поток его слов и сами выбранные им слова обжигают, у него взрывной темперамент – но когда лава, вырвавшаяся из этого вулкана, застывает, она становится незыблемой структурой. Так, камни и огонь сплавляются в нерасторжимое единство. То же самое происходит и с его текстами.
Будем честными, эти тексты – литература. Именно поэтому с самого первого дня их так любили читатели и так ненавидели искусствоведы. Вольфганг Ульрих [2] был первым, кто показал, что Мейер-Грефе в «Испанском путешествии» совершенно сознательно приурочил свое разочарование в Веласкесе и низвержение своего идола к Страстной пятнице, чтобы отпраздновать в Светлое воскресенье рождение нового бога искусства – Эль Греко. Фиктивная форма как бы подлинных путевых заметок у Мейер-Грефе представляет собой самую изощренную прозу. Он понимал, что делал, он пользовался всеми литературными методами, потому что, по его словам, «если цель того потребует, нужно всегда быть готовым принести что-то в жертву, пусть даже это экстракт высшей мудрости».
Мейер-Грефе был в Германии самым известным из «писателей-искусствоведов», а люди науки с самого начала презирали таких авторов. Другому писателю-искусствоведу, не менее презираемому, чем Мейер-Грефе, и почти такому же интересному, а именно Рихарду Мутеру, принадлежит характеристика этой профессии, идеально описывающая талант нашего героя: в идеале познавательный текст об искусстве «должен писать не ученый, а поэт», потому что только поэт обладает «всей тонкостью чувств, которая необходима для того, чтобы глубоко воспринимать произведения искусства, и пластичностью языка», чтобы должным образом анализировать эти произведения. И это идеальная характеристика Мейер-Грефе.