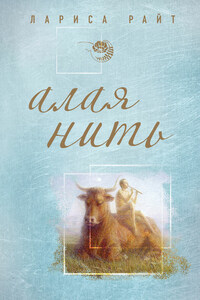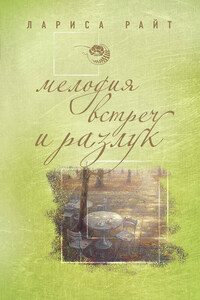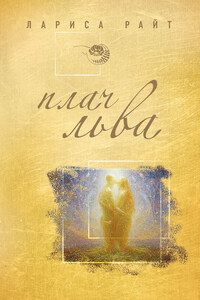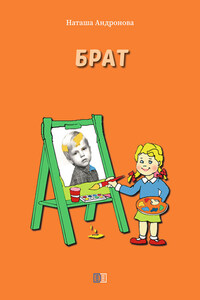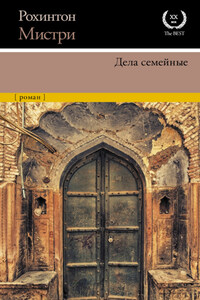За последние несколько дней это слово стало излюбленным у всех мексиканцев. «Аномалия» – неслось из радиоприемников, «аномалия» – возбужденно жестикулировали журналисты, «аномалия» – кричали газетчики, «аномалия» – ворчали продавцы чичаронов[1], «аномалия» – сетовали говорливые мамаши, спеша увести домой изумленных детишек, «аномалия» – ругались водители грузовиков…
Лола смотрит, как аномалия пушистыми комочками оседает на листья гванабано. Лоле тридцать пять, и это первый снег в ее жизни. Она ловит мягкие хлопья, разглядывает причудливые узоры на мокрой ладошке и искренне радуется:
– Milagro![2]
Женщина дует на снежинки – и они тают, сползая по тонким пальцам длинными каплями. Вновь осевшие крупинки искрятся на руке влажным светом, у Лолы перехватывает дыхание. Сходство так очевидно! Маленькие лучистые звездочки блестят огнем, которым наполнены глаза благородного торо. Ветер вихрем кружит белые песчинки, превращая неторопливый снегопад в безумный пасодобль. Колкие бандерильи обрушиваются на Лолу тысячной армией и стекают по щекам лохмотьями растерзанной тряпки тореро.
Лола смотрит на поседевшие крыши двухэтажной Мериды, на пустеющий Пасео де Монтехо, на суетливых тровадоров, торопливо зачехляющих свои гитары.
«Истинные юкатанцы», – усмехается она и, не удержавшись, произносит вслух:
– Нити Нати Катан![3]
«Подождите! Не бегите! Остановитесь! Взгляните на аномалию! Уже через мгновение она подчеркнет все детали вашего города, по-новому обрисует контуры алькасара, наполнит дома ярким светом, сделает сказочными пейзажи Парка Столетия».
Лола любуется непогодой и видит перед собой только одну непреодолимую снежную силу – силу природной красоты. Лола не задумывается, что есть и другая сила.
Лола жила в Испании. Лола была матадором. Лола видела силу быка. Лола чувствовала на себе его тяжесть. Но Лола не знала ничего о силе тяжести снега. Той мощи, что, подобно пороховому заряду, заискрив от гула вертолета, порыва ветра, падения камня или человеческого шага, за доли секунды пронзает шипящими трещинами осевший пласт снежной доски и заставляет тяжеленные плиты на мгновение застыть в реверансе, а затем устремиться вниз в бешеном вихре смерти.
– Жизни нет, мама! Просто больше нет жизни!
Катарина отстраняется от матери и отворачивается. Она больше не сможет переварить ни грамма, ни крупинки, ни звука сочувствия. Еще миллиметр жалости, еще одна щепотка утешения – и она не выдержит. А главное, слова, которыми выстреливают в нее последние два дня все посвященные, как ни странно, не приносят абсолютно никакого облегчения.
«Горькая правда лучше, чем сладкая ложь». За пятнадцать лет Катарина сама столько раз повторяла это детям и Антонио. Неудивительно, что он предпочел поступить именно так: открыто и честно, глядя в глаза, прямо и откровенно. Жестоко! Мучительно! Бесчеловечно! Как же он сказал? Сначала она все время бубнила его слова. Не потому, что хотела запомнить, а потому что не могла забыть. И вот, пожалуйста: воспаленная память не выдержала, жаждет избавиться от смердящего мусора. Катарине кажется, что она насквозь пропиталась омерзительной вонью предательства, от которой никогда уже не сможет отмыться. Она пытается поскрести в голове невидимой мочалкой, но намыленные предложения выскальзывают из облаков пены и снова выстраиваются в стройные ряды текста, разрубившего ее жизнь на до и после.
«Не хочу тебя обманывать. Я встретил другую. Я ухожу». И, кажется, еще «извини» в конце. Этого она точно не помнит. Может, было и еще что-нибудь, просто больше Катарина ничего не слышала. Она не успела ничего – ни протянуть руки, ни издать звук – как осталась наедине с полупустым шкафом и нескончаемым списком «а как же», «почему» и «зачем».
«А как же вчерашний ужин? Почему ты так обрадовался своим любимым спагетти и зачем зажигал свечи? А как же все, что было потом? Зачем? Это было прощальное танго? Но почему? А как же прием в честь твоего нового проекта, на который ты собирался вести меня в четверг? Зачем подарил специально для этого новое платье? А как же отпуск, в который мы хотели выбраться на годовщину? Почему ты завалил весь столик в гостиной проспектами туристических бюро и зачем рассказывал, что Бали лучше Гоа, если даже не думал лететь туда, во всяком случае со мной? А как же твой приятель? Зачем ты приглашал его к нам через пару недель, если знал, что тебя здесь не будет? А как же твоя строгая итальянская мама, которую ты вспоминал всякий раз, когда я хотела позвать на день рождения кого-то из коллег-мужчин? Зачем ты говорил: «Мама приехала, она не поймет дружбы между мужчиной и женщиной?» Ах да. Я и забыла. С этой, не знаю, как ее там, ты не дружишь. Мама поймет. А как же математика Фреда? Ты же занимаешься с ним каждый вечер. Я ничего не понимаю в формулах. А как же Анита? Ты ее купаешь по воскресеньям. Я пыталась пару раз, но, ты же знаешь, она кричит, что мама все делает не так. А как же новый телевизор с плоским экраном? Мы ведь хотели наконец выбрать его в выходные. Зачем ты освободил место и всем хвастался, что очень скоро у тебя будет домашний кинотеатр? Хотя, может, он и будет… У тебя. А как же Барни? Мне не по силам удержать его, если во время прогулки пес захочет порезвиться на соседском газоне. Так как же вчерашняя ночь? А все пятнадцать лет, Антонио? А как же я? Почему ты разлюбил меня? Зачем ушел? А как же я буду жить без тебя? Почему? Зачем?»
– Мама! Гляди!
Катарина смотрит в окно и машет рукой сыну, выдавливая улыбку. Фред повалил Барни на снег и катается по поляне в обнимку с лабрадором. Катарина подходит к двери, снимает с крючка ключи от машины, кивает матери:
– Поеду за Анитой. Посмотри за ним.
Ее миниатюрный «Поло» чихает, но заводится. Антонио собирался отвезти его в ремонт. Теперь придется самой, а она даже не помнит, где эта чертова мастерская. Машинами всегда занимался муж. Он вообще много чем занимался: разжигал камин и выбирал вино к ужину, знал, когда пришло время вычистить канализацию или поменять черепицу на крыше, брал и гасил кредиты, поил Аниту микстурой от температуры, летом стриг зеленый газон, а зимой расчищал его от сугробов. А еще он любил Катарину. Целую вечность. Или меньше? Когда все изменилось? Позавчера? Месяц назад? Год? Или их брак был обречен с самого начала, когда Антонио рванул за ней из Генуи в Инсбрук, оставив не самую плохую работу, практически подписанный брачный контракт и бьющихся в истерике родителей. Помнится, тогда счастье Катарины не могли омрачить даже невольные мысли о брошенной итальянке. «Я ее даже не знаю и ни в чем не виновата», – так она говорила себе. Что же, теперь то же самое может сказать и его новая избранница. А дети? Что дети? Она же их даже не знает. Родит ему других. Интересно, она моложе? Наверняка! Зачем менять одну сорокапятилетнюю тетку на другую, если первая кормит, обстирывает, обглаживает и не брюзжит при этом? Нет смысла. А вот взять вместо потускневшей, потертой, утратившей былой лоск и ходовые качества лошадки новую, усовершенствованную, с округлым бампером и сияющими фарами – это по-мужски. Разве можно удержаться от искушения заглянуть под такой капот, если то, как заводится и работает старый, ты уже выучил наизусть?»