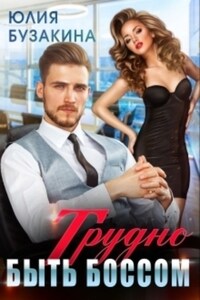Темнота души подобна колодцу без дна, когда воды достаточно, чтобы напитаться ею, но глубина не позволяет зачерпнуть влаги живительной, там лишь холод сковывает сущее, ибо не проникает луч солнечный в те просторы узкие. И потому находящийся во тьме, будет видеть тусклый единый светоч наверху, а вокруг лишь тьму беспросветную.
Внимайте слову моему и не уподобляйтесь аспиду сему – скажу я вам, взглянув на ужасное отражение своей души и на абрисы омерзительного тела, ибо это мое страдальческое бремя. Змей искуситель ползает на брюхе и жалит в икры прародителей незрячих, но та ступня и в грязь втопчет сего гада. Змей мудр, но кротость голубя неведома ему.
О как несчастны вы потерявшие опору мира, основы нравственности, этики морали и незримой связи с Богом. Как вы упрямы отроки, познающие лживые науки, ваши души испытывают муки, вы изнываете от боли рвущихся оков, вы свободными кажетесь весьма, однако неспешно зло прокрадывается в ваши юные уста, что глаголют любострастно и самолюбиво. Увы, и горделиво.
Заклинаю – не помышляйте о дурном, являйте правду там, где правят вероломно двуязычно, закон твердите там, где бесчинствует беззаконье, и мыслите своим умом, обратитесь к Господу с прощеньем о милости откровенья и с Божьего повеленья, обрящете вы тогда доброты смирения познанья. Помните – душа есть идеал, что искажается порой пороком. Низвергнув страсти, в чистоте откликнется нам Свет и в Свете том уже не будет тьмы.
Впредь искушаемы вы будете привольно, опишу дословно сторону души своей отроду безумной. Вот грозные виденья предо мною драмою встают, вот и сюжет известен с самого начала. Строфы слагаются в абзацы, сплетаются, словно обручи змеи, от главы перейдем к хвосту, иль в ином порядке зачнется повесть великая по смыслу и значенью. Позвольте явить вам мою гордость в обличье тварном. Ныне сотворим воображеньем образ странный, мой реальностью зеркальный, или лишь воображаемо астральный.
Замедлите сердца, успокойте вечный кровеносный механизм, не сочтите сказ за афоризм. Не обессудьте, не травите скулы зловредною усмешкой. И пусть исторгнется творенье из пучин муз тлеющих моих. Вот рукописи в пепел превращаются, бывши некогда белыми листами, заведомо до суда забвеньем стать желают. Пускай они свою переломную судьбу, свой едкий фатум знают, но я лишен порядка, или перевоплощенья. Еще одну мне предстоит жизнь прожить. О сколько лет минуло с тех пор, я жил видимо более Адама! Вот только семя мое останется во мне и не расселится по миру, только семена души будут жить в веках, в потомках, после остановки моего покойного дыханья. Плоды мои не гниют, трупный яд не источают, но эфирной радугой в живые души благословленной лирой проникают. Позвольте, в муках творчества дитя премудрое рукописное зачать. Ныне историю приступаю неистово слагать.
Боже, позволь мне сей творенье дописать.
История первая. О подкидыше и семье баронетов
Барон Дон-Эскью не отличался отличительной сдержанностью нрава, посему навязчивое утомление всюду сопровождало его будничные разъезды и кратковременные вылазки в заграничные страны, особенно в праздничные дни, настрой его претерпевал неминуемое падение в непролазные топи суетливых дел и мелкосортных делишек. Именно сейчас он нетерпеливо ожидал заключение неторопливого нотариуса о расширении родовой усадьбы по причине многочисленности знатного семейства. Ибо его верная супруга зачала, выносила и явила на свет Божий трех здоровых деток с высокими заблаговременными видами на будущее, особенно на процветающую земную жизнь. Посему, барон, повинуясь обыкновенному чувству защитного оберега, замыслил постройку ряда новых домов на подданных ему землях, как для прислуги, так и для семейств, мужей и жен своих кровных отпрысков, если они изберут столь важное общественное поприще создания ячейки общества – как думал он всегда, не гнушаясь сомнениям. Имея баснословное положение в светском обществе и некоторое уважение среди церковной иерархии, всё же барон не слыл миллионщиком или чрезмерно расточительным богачом, скорее он являлся удачливым предпринимателем и человеком, который удачливо родился в семье честнейших аристократов. Однако барон нисколько не располагал типичными чертами сребролюбцев, особенно его крестьянский нос картофелиной всегда вызывал в нем отвращение к самому себе, но в характере джентльмена не имелось сентиментальности, разрушительных самобичеваний, тем паче ущемления самооценки. Потому что барон, гордо приподняв кустистые брови, всегда шел напролом, невзирая на внешние особенности видимых и невидимых препятствий и всяческих ограничений. И люди всех возрастов и родов за маской надменного темперамента не замечали обильные греховные недостатки барона.
В это непогожее утро, размашисто махая скомканной бумагой перед колким носом юриста, словно услужливо обдувая его веером, или опахалом, барон бурно толковал свои резоны, обходясь со средним классом по обыкновению грубо, не ставя нотариуса ни во что ценное. Краснея, источая липкий пот, или таким химическим образом французские духи преобразовывались из газообразного состояния обратно в жидкое, он прикладывал толстые руки к пухнущей голове в знак непонимания трудностей возникших с разрешением сего недвусмысленного вопроса. Неужели так трудно поставить всего одну печать, крючковатую подпись, и сразу все станут довольны и обогащены. Но уважающий себя юрист противился желанию барона, имея на то веские основания, его предпочтение складывалось не в пользу просящего возрастного лица, если судить по шкале заслуг перед обществом. Ведь когда барон с честью пополнил население родной страны несколькими податливыми внушению умами и рабочими руками, он уразумел в том неоцененный подвиг, вклад – если сказать грубо, и посему желал, чтобы раскормленное государство ответило ему тем же резоном, увеличило его земли минимум в три раза, по тридцать соток на ребенка. Объективно, никто, конечно, не считал сей заслуги чем-то достойным особого восхваления. “Знаете, мсье, сколько у нищих людей рождается детей, десятки, и что, прикажите всех немедля обеспечивать бесплатным жильем? Это весьма не прагматично” – хотел было высказаться юрист подобным откровенным образом. Однако, слуга юриспруденции, одетый в классический фрак и с основополагающей залысиной с одной стороны немного удлиненной главы чуть выше выпуклого лба, на коем уже появились горизонтальные складки, а мышиные глазки то и дело опускались в знак наигранного почтения, он-то и хотел протестным возгласом ответить барону, но исступленно промолчал. Барон в свою очередь не унимался, заискивал, угрожал и всячески властно воздействовал на ум упрямого государственного деятеля. Затем барон начал подумывать о взятке, вот только легче самому купить землю, чем даровать ту же самую сумму чиновнику, который может прогореть на принятии черной мзды. В общем ракурсе, перспектива виделась далеко не радужной.