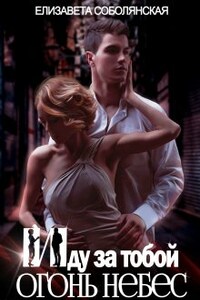Забытый, весенний, стою в колодце. Так в детстве я называл этот двор, образованный кольцом сгорбленных хромых сталинок и втиснутым промеж них домом в десять этажей. Красный гигант здоровается со мной, каждый его кирпичик рад родному гостю. Стены полукругом залиты заходящим солнцем, и голова моя обнята рыжим отсветом высоких тел. Опускаю глаза. Огрубевшая кожа ступней касается трещин, в которых посверкивает зеленое стекло. Кажется, прошло пятнадцать… нет, шестнадцать лет с тех пор, как на асфальте в паре метрах от места, где я нахожусь, мы с мамой рисовали цветными мелками клетки-классики. Справа, у придомовой лавки, выкрашенной в тошнотно-охристый цвет, подсыхает мать-и-мачеха. Как головки канареек, цветы раскиданы по всей поляне, еще лысой, но укрытой сухой прошлогодней травой. Теплеет, птиц не слышно. Поднимаюсь к подъездной двери. От бетонной лестницы с законопаченными щелями на стыках ступеней разит холодом. Деревянные перила рассохлись, стали трухлявыми – обрекать себя на занозы я не стал, несмотря на ноющую боль в конечностях. На макушку упало несколько крошек цемента с козырька. Мигрень и болезненность в шее не отпускают. Дергаю ручку. Надо же, магнит на замке не работает. Вхожу.
Дверь захлопывается, еще несколько секунд в нутро подъезда тянется грохот. Впотьмах нащупываю шершавые стены, густую паутину. Рука дотрагивается до чего-то твердого в углу – тут по-прежнему стоит метла дворника. Делаю четыре шага вперед и ударяюсь плечом о почтовые ящики. Наверное, в этих эмалированных коробках, как обычно, валяются счета, газеты, извещения и прочая макулатура. Через грязное окно первого этажа на лестницу безмятежно сочится вечерний тускло-желтоватый свет, притеняемый старым ясенем по ту сторону дома. Нужно идти. Медлительными шагами взбираюсь на первые восемь ступеней, подхожу к старому лифту и мусоропроводу напротив. Затхлый запах медленно тянется из углов и проникает в ноздри. Узкие двери лифта полураскрыты, за ними зияет черная шахта, кабины нет. Еще раз смотрю на оконные разводы, тоненькие тенеты, трепыхающиеся меж старыми рамами. Разворачиваюсь, иду выше – второй этаж, третий, четвертый… Моя квартира. Я узнал ее не сразу, образ как-то нехотя всплыл на поверхность спустя несколько секунд после того, как увидел золотую трафаретную цифру на дверном полотне. На запыленной стали едва угадываются улыбающиеся рожицы, нарисованные этими пальцами. Пальчиками. Вот он я, нахожусь по эту сторону от входа. Маленький, я всегда до ужаса боялся людей, стоящих на моем месте и изредка стучащих кулаком. Нет, не стучащих – бьющих что есть силы по внешней стороне. Я не знал, кто это был. Меня от них отделяли панорамный глазок и один оборот замка, но я никогда не думал, чтобы подойти и посмотреть на просящих. Я был в квартире один, и родители, конечно, никого не ждали… Но к чему теперь этот страх? Стоя на площадке, заношу руку, чтобы нанести три удара. Останавливаюсь. Почему-то я знаю, что мне никто не откроет. Откуда? Отвожу взгляд. Дневник! Должно быть, он лежит на своем месте. Тянусь к запыленной крышке щитка рядом с висящим на соплях звонком (впрочем, он никогда не работал). Открываю, просовываю кисть в пучки проводов, за ними – выбоина в стене, с трудом вытягиваю пальцами страницы в твердых корках. Проглаживаю царапины на черном бумвиниловом переплете, закладка оборвана. Открываю записи.
Да, все началось с того майского синего часа.
15 мая 2019 года. На циферблате образовался тупой угол. В четыре часа утра я надумал, что хочу увидеть рассвет. Сам не знаю, почему. Может, просто секундный бзик, или одна из тех мыслей, питаемых слабой тоской, которые ходят рука об руку с бессонницей. Мне кажется, переход ночи в утро «растормашивает» состояние какой-то состыковки мысли и ощущения. Откинул разряженный телефон, взял скрипучий стул, поставил спинкой к окну. Сам туго завернулся в одеяло, как гусеница в кокон, сел и стал ждать, когда порозовеют крыши соседних домов. Пока что мне была доступна только луна, которая через стеклопакет утраивала себя. Почувствовал очень сладкий, даже приторный запах, как от дешевого парфюма или сиропа: под окнами цветут вишни… да уж, хорошее сравнение. Их сажал пожилой мужчина с нижнего этажа. Он давно умер, а они – его память. Правда, сами деревца тяжело больны, их листья изъела черная тля. И к чему я это вспомнил… Тихо. Никогда не видел наш дворик таким молчаливым. Дремота сшивает тонкой нитью веки, утренняя прохлада их вспарывает, белки глаз краснеют. Почему-то глаза невыспавшегося человека и плакавшего имеют разный рисунок лопнувших или воспаленных сосудиков, и это всегда заметно… Верхушка тополя напротив слегка колышется, поднимается ветер. Где-то неподалеку орут местные алкаши. Впервые вижу такое небо… Надо же… Не голубое, не синее, а цвета сырой акварели, какой рисуют лужи. Обычно днем я смотрю, зажмурившись, вверх и думаю о погожести дня, сейчас же испытываю что-то совершенно другое, незнакомое. Точнее сказать, вообще ничего. Внутреннее «я» замолкает, тает и, наконец, совсем исчезает, и брюхо становится пустым. Холодное чувство, чернильное. Не хочу думать ни о прошедшем дне, ни о грядущем, я застрял где-то посередине и даю себе время побыть там. По небу уже носятся стрижи, на чердаке дома напротив проснулись голуби. Они вылезли на оцинкованный карниз, два белых, два черных. Если прислушаться, можно услышать их курлыканье. Уже пять часов. Весьма занимательно смотреть на чужие окна, за которыми, кажется, так беззащитно спят в позе эмбриона люди. Небо светлеет, циан разбавляется. Близко, каркнув, пролетела ворона. Тело млеет, стекленеет, но мозг не сдается. Еще минута, пять, десять. Разлапистый граб откидывает желто-серую тень на облупившуюся штукатурку соседского парапета. Вдалеке шумит трасса – бензиновая артерия этого города. Восход. Новому, ему отведено несколько минут на жизнь, но таких будут еще тысячи после. Да, вот и проснулось душевное томление. Чтобы не дать ему взять верх, нужно уйти в другое место – лечь спать. Пора.
24 мая 2019 года. Днем, когда в комнату бьет солнце, писать нет желания, но куда девать этот холостой порыв? Я даже не заметил, как быстро появилась листва! Кажется, еще вчера эти деревья пышали травянистой нежностью, а теперь отливают черствой зеленью. Сегодня я видел соседку сверху… Если бы оставленность и незнание того, что делать с внезапно свалившейся на тебя свободой, имели человеческий облик, она однозначно подошла бы на эту роль. Лишение – вид свободы? Когда от тебя уходит то, что долгое время оставалось прижатое рядом, под мышкой. И даже если ты знаешь, что однажды проснешься без этой нужности, потому что прошлым вечером отпустил ее, даже с неподдельной выдержкой, твердостью, тебе плохо. Бывают ночи, когда она стоит в белом платье посреди двора, неуклюже сжимая пустую чекушку холодными пальцами, ее щеки поблескивают. Никого у нее не осталось, кроме старой тощей кошки, живущей в подвале. Единственный сын, старше меня на пару лет, давно уехал покорять столицу и удовлетворять девичьи аппетиты. Она состарилась.