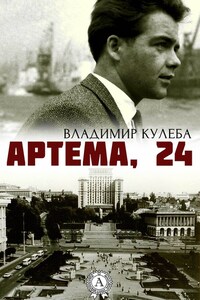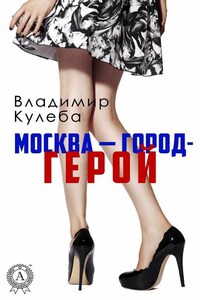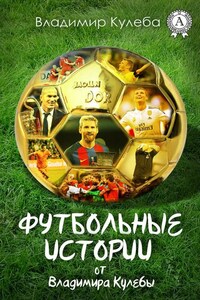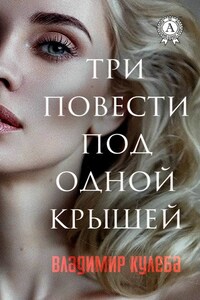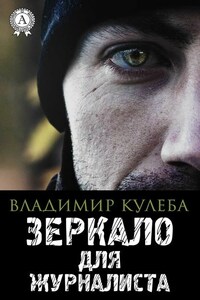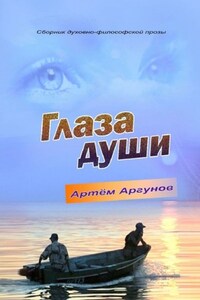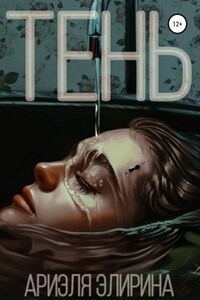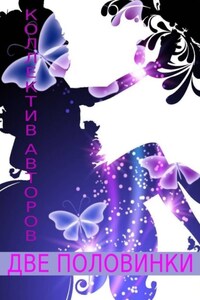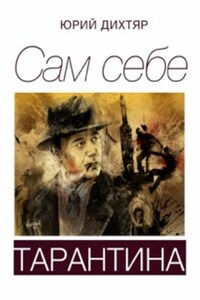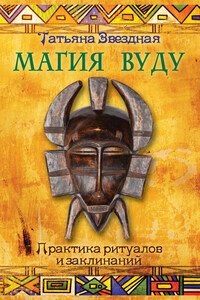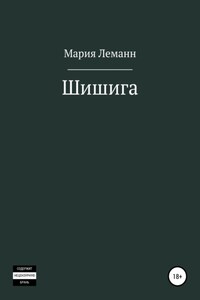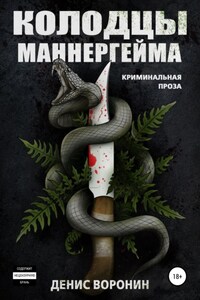Чтоб я так жил, клянусь, но, как и двадцать лет назад, беляши на нашей аллейке продавались! Не грех даже из машины выйти, посмотреть. Так и есть, та самая тетка, и сказать, что сильно постарела, – язык не повернется. Банк коммерческий из красного кирпича, иномарки на платной стоянке, киосков старых нигде не видно, – площадь, как биллиардный стол, а она контрабандой накалывает трезубой вилкой, сразу по две штуки, пар идет с кастрюли оцинкованной, я думал, теперь и нет таких, некому выпускать. И люди, снующие от метро до троллейбусной остановки с удовольствием отовариваются беляшами горяченькими, с лучком. И ничего, что халат у тетки грязный, в жирных пятнах, не белый давно, даже не серый, как в реанимации, а как у зубного хирурга, что дергает по сто штук зубов в день, кровью и всякой дрянью изо рта закапанный. И прядь тоже, постоянно свисающая, длинная, пепельно-седая, немытая давно, когда наклоняется, едва в кастрюлю не лезет. Но что людям – голодные, бегут, некогда смотреть, на ходу перехватывают, давятся беляшами, пока горячие.
Мы тогда с Петькой Чекой не устояли, взяли по беляшику. Холодрыга жуткая, пока сюда с Артема добрались, замерзли, как цуцики. Пообедать в конторе не успели, шеф погнал снимать и делать в номер срочный материал – домостроительному комбинату где-то на самых выселках, за Борщаговкой, вручали переходное красное знамя за победу в соцсоревновании. В городскую газету я перешел совсем недавно, одно из первых самостоятельных заданий, готов был землю рыть, и в троллейбусе все выстраивал в голове контуры будущей гениальной заметки. Штампы один кондовее другого роились в голове. Что-то вроде: «Святково прикрашений зал будинку культури. Сьогодні тут зібралися представники всіх поколінь, герої війни та праці, гвардійці трудової звитяги, щоб прийняти заслужену нагороду. Радісний, піднесений настрій. Урочисто лунають фанфари. Святкову церемонію відкриває секретар парткому комбінату…» ну и так далее.
Петька Чекал, фотокорреспондент газеты «Шлях до комунізму», которого все, конечно же, называли «Чека», подобные церемонии снимал на пленку лет двадцать подряд. Как и многие фотокоры, фотографировать он не умел, карточки выходили темные, блеклые, как из подводного царства. Когда он небрежно бросал пачку снимков ответственному секретарю, мечтавшему в молодости стать художником, с тонким и развитым вкусом, у того сразу портилось настроение на целый день. Это было чревато, так как ответсек считался вторым человеком в редакции и в отсутствии шефа, который постоянно где-то пропадал, вел всю внутриредакционную работу. Он, кроме всего прочего, размечал гонорар, и от его настроения зависело, поставит ли он на твоей статье, скажем, цифру «3» или «5». Хоть два рубля, а разница есть и существенная.
В этот день мы с Петькой не только не успели пообедать, но и пролетели с зарплатой и гонораром, их давали после двух часов, а нас погнали в двенадцать, потому что все торжественные мероприятия по решению горкома партии теперь в рабочее время проводить запрещалось – или после смены или в обед. Но скажите, какой же дурак будет оставаться после работы, чтобы получать почетное красное знамя пусть даже за победу в соцсоревновании, что влекло за собой автоматическую премию прицепом. Все спешили домой, лишь бы быстрее закончилось, воспитательного эффекта никакого бы не получилось, вот и придумали в обед.
Петька Чека слыл одним из самых богатых людей не только в редакции, но и в Киеве. Говорили, он подпольный миллионер. На одних халтурах в детсадиках и школах сшибал за раз столько, что нам всем за год не заработать. И как у всех миллионеров, денег у Петьки с собой никогда не было, так, мелочь разве что. У меня – тем более, на полтинник в день тянул. Беляш стоил 17 копеек. «По одному или по два?» – спросил Чека. Он славился тем, что в самом сытом виде мог съесть батон, не запивая водой. Считать свои деньги мне не надо, я и так прекрасно знал, что в кармане – 50 копеек. Три монеты – две по пятнадцать, «пятнашки», которые я сегодня выручил за пустые молочные бутылки, перед этим долго их скоблил на кухне, рвал газету, совал внутрь, кефир застыл и не отмывался, но выхода у меня не было. В молочном эта стерва, заметив маленькое пятнышко, брезгливо отставляла в сторону. И не проси, и не моли. И еще – 20 коп., последние, но сегодня должна быть зарплата, так что не страшно. «Один мне», – сказал я и дал Петьке двадцатикопеечную монету. Пусть, если не вернет три копейки сдачи, заплатит в автобусе, билет стоит пять, сэкономлю две копейки на этом жмоте. Чека добавил к моей двадцатке пятнашку и сунул мне копейку сдачи. Учитесь, пока он жив. Конечно, подмывало взять два беляша, ну что – один? Смотреть не на что. Но, во-первых, теплилась слабая надежда, что нас покормят обедом на орденоносном комбинате, чем черт не шутит, праздник ведь, и налить рюмку могут. А во-вторых, еще не известно, получим ли мы с Петькой сегодня зарплату, вернемся ли раньше, чем кассирша Зина уедет в типографию на Ленина. Мы за ней все равно рвануть не успеем, в номер надо материал сдавать. Пока напишешь, пока дождешься Петькиных карточек, чтоб текстовку за него написать, потом в полосе вычитать, проверить, – рабочий день и закончится. А вечером тоже «кусать хочется», тогда и пригодятся те тридцать копеек. На городскую булку (6 коп.) и сто граммов докторской (22 коп.) как раз хватит, а чай в общаге есть всегда и сахару немного, кажется, осталось.
Петька Чека, проработавший двадцать два года в киевской газете фотокором, снимал плохо и к тому же был безграмотным. Или, как говорил наш ответсек, «неписьменным». Я, младший литработник, сокращенно – литраб (85 рэ в месяц) отдела промышленности, строительства и транспорта, обнаружив это, долго пребывал в растерянности, как такое могло быть?
В мои обязанности входило писать подтекстовки к снимкам на производственную тематику. Их почти всегда поручали Петьке. И почти всегда они получались у него одинаковыми. Пять ил шесть человек в рабочих халатах стоят, неловко позируя, не зная куда деть руки, возле станка, на фоне плаката с текстом типа: «Каждую рабочему часу – наивысшую отдачу!». Бригадир – в центре, со штангенциркулем в руках (или в нагрудном кармане). Штангенциркуль Чека всегда носил с собой, в сумке с фотоаппаратурой и выдавал бригадиру перед съемкой. «Эх, молодежь! – орал он так, что было слышно на весь пролет, говорить тихо Петька не умел, на одно ухо слышал плохо, поэтому всегда кричал. – Ничего не знаете! На, держи, ексель-моксель! Да выше подними, над головой, чтоб люди видели, е-пэ-рэ-сэ-тэ!» Штангенциркуль в руках рабочего означал для Чеки высший пилотаж, освоение новой техники, научной организации труда, а в целом служил тем характерным штришком, который символизировал, по его разумению, сближение умственного и физического труда. Впрочем, это я уже от себя, за него придумал или додумал, потому что Петька Чека, или Ексель-Моксель, как его иногда называли в конторе, и слов-то таких не знал. Но богатый опыт и безошибочная интуиция подсказывали ему, что со штангенциркулем снимок будет смотреться намного солидней, соответствовать требованиям, и в газету пройдет обязательно. Самое удивительное, я заметил, такие фото и нашему ответсеку приходились по вкусу. Наверное, потому что за всю свою жизнь он так ни разу не удосужился посетить хотя бы один завод или фабрику, предпочитал прохладу кабинета, учился в художественном техникуме, работал в мастерских средь холстов, вдыхая не запах металлической стружки, а старых картин и книг. Поэтому и для ответсека штангенциркуль был, как сейчас говорят, знаковой деталью.