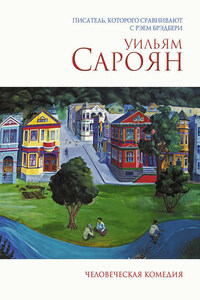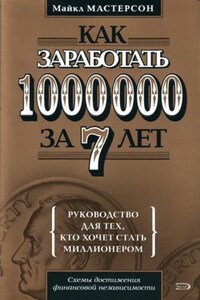Не забывай, превыше всего кровь. Помни, что человек из плоти, что плоть страдает от боли и что разум, заключенный в плоть, страдает вместе с ней. Помни, что дух есть форма плоти, а душа – ее тень. Превыше всего юмор и интеллект, а истина – единственное начало: не то, что сказано или сделано, не самоочевидное – истина тишины, интеллект безмолвия, бездействия. Благочестие. Лица. Память, наша память о земле. То и это. То, что сейчас является этим, и то, что тогда было тем, что мы видели. И солнце. Оно – наша жизнь, и другого нам не дано. Помни Бога. Многоликого Бога.
Помни о смехе.
Бывало, ночами в Нью-Йорке волосы у меня на голове покрывались инеем, и, лишившись сна, я просыпался и вспоминал. Я вспоминал свои изыскания в море печатного слова, скромное красноречивое забытое имя, скромного человека, который оставил свой след на бумаге: да, да, да. Нечто без слов, но безукоризненное, мои заиндевевшие волосы, и комнатушка на мансарде в сердце Манхэттена, напротив здания «Парамаунт», и я в ней, в темноте, один, жду, когда наступит утро. Иногда я вылезал из постели и в ночи курил сигарету. Я недолюбливал свет, поэтому сидел в темноте и вспоминал.
Пересекая континент, я запомнил одно-два лица. Парень с гонореей, который ехал в автобусе к мамочке и вез свою гонорею из Южной Америки. Он рассказывал про девушку, молоденькую и очень красивую девчонку. И, черт возьми, надо же, непрестанно свербит и ничего не поделаешь! Ему было восемнадцать или девятнадцать, и он укатил в Южную Америку переспать с девчонкой. И вот тебе на! По самому больному месту. И он хлебал виски и глотал аспирин, чтобы продержаться, притупить боль. Йорк, штат Пенсильвания, хороший город, там его родня. Все будет в порядке, говорил он, как только я приеду домой. А больная девчонка, возвращаясь в Чикаго, разговаривала во сне. Языком страха, смерти. Никакой грамматики, только вскрики. Один за другим. Полночная горечь. У повзрослевшей девушки появляются дети и лепечут.
И лица людей на улицах, в больших городах, в малых городах. Однообразие.
Я просыпался посреди ночи и вспоминал. Пытаться уснуть было бесполезно, потому что я находился в пространстве, которое меня не признавало. И когда бы я ни пытался уснуть, мое жилище заявляло мне о своей враждебности, и я садился в постели и всматривался во тьму.
Иногда жилище слышало мой тихий смех. Я не мог плакать, потому что я делал то, что мне нравилось, и поэтому я не мог сдержать смеха. И я всегда чувствовал, что комната ко мне прислушивается. Я слышал, как она ворчит:
– Этот субъект – подозрительный малый. В его-то отчаянном положении встает посреди ночи с заиндевевшими волосами и еще смеется.
Все живые и без того страдали от боли. Боли и так хватало. Если ты пытался вести благочестивый образ жизни, то все равно по телу разливалась тупая боль, и душа жарилась на медленном огне, который полностью пожирал ее сущность. Я задумывался о боли, и, в конце концов, единственное, что мне оставалось, – это смех. Если бы началась война, было бы проще и логичнее. Боль была бы оправданной. Мы сражаемся за высокие идеалы, мы защищаем свои дома, мы спасаем цивилизацию и все такое прочее. Враг осязаем, ясно, кто неприятель, – и мгновенная боль, не успеешь опомниться. Либо боль свалилась на тебя и утащила туда, где смерть и покой, либо она миновала тебя. Опять-таки есть осязаемый предмет ненависти, безошибочный противник. Но без войны все иначе. Можно попытаться возненавидеть Бога, но в конечном счете ничего не получится. В итоге ты или тихо смеешься, или молишься, употребляя благочестивые словеса и богохульные выражения.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru