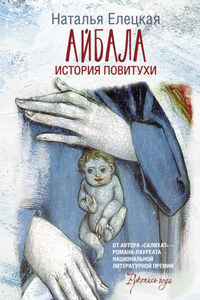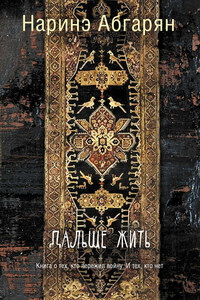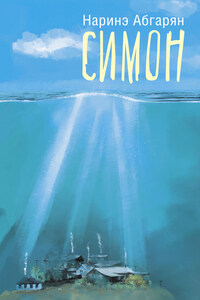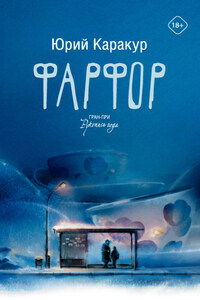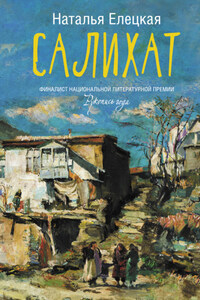Роды у Фазилат начались в самую ненастную ночь уходящего года.
Шуше уже укладывалась спать, когда услышала настойчивый стук, приглушенный неумолчным завыванием ветра и жалобным скрипом потолочных балок – привычными звуками, которые одни только и помогали Шуше уснуть: в последнее время она мучилась бессонницей.
Накинув поверх рубахи овечью шаль и наспех обвязав голову платком, Шуше сунула ноги в растоптанные чувяки, взяла керосиновую лампу и пошла открывать.
В сенях стоял жуткий холод. Сквозь щели в неплотно пригнанных, местами прогнивших досках задувал сквозняк. Висевшая на гвозде накидка задубела от мороза. Вой ветра здесь звучал еще неистовей, словно предсмертные стоны подстреленного волка.
Все открытые части тела Шуше в сенях мгновенно замерзали, но хуже всего приходилось ногам: если на них не было двух пар толстых шерстяных носков, Шуше казалось, будто она опустила ступни в таз с ледяной водой. По этой причине Шуше не любила сени: или теплый дом, или уж двор, куда она, по крайней мере, выходила как следует закутанная.
Отодвигая щеколду, Шуше уже знала, кто там, за дверью: или Сабира, или Малика. В такую ночь она могла понадобиться только Мяршоевым. Но она не угадала: за ней пришел Цевехан.
– Пойдемте, Шуше Наврузовна! – выбивая зубами чечетку и пытаясь перекричать ветер, взмолился мальчик. – Очень надо.
Снегопад с обеда еще усилился; снег теперь валил сплошной завесой, такой плотной, что сквозь нее было не разглядеть каменную кладку забора в двух метрах от крыльца.
– Зайди, – сказала Шуше.
Прежде чем переступить порог, Цевехан Мяршоев отряхнул себя от снега, которым был заметен весь, от шапки до ботинок. Нос у него покраснел, глаза слезились. Он притоптывал ногами и прятал ладони под мышками, пытаясь согреться. Латаный тулупчик с куцым воротником и оторванной верхней пуговицей не мог уберечь Цевехана от холода в такую непогоду.
Шуше и сама дрожала, хотя не бежала почти четверть часа по скованным предновогодней стужей извилистым улочкам горного аула. У нее мелькнула мысль пригласить Цевехана на кухню, но тот в свои тринадцать лет уже считался мужчиной, а в доме спали девушки. По-хорошему, Шуше не должна была стоять перед Цевеханом в одной рубахе и шали. Почтенный возраст вкупе с ремеслом давали ей некоторые послабления в глазах односельчан, но не пред очами Всевышнего, чьи заповеди она истово чтила.
– Давно началось? – спросила Шуше, стягивая шаль на плоской, давно иссохшей груди.
– Кажется, часа два назад, – пробормотал Цевехан, стыдливо опустив глаза.
Шуше почувствовала глухое раздражение. Почему не прислали Малику? Хоть та и не замужем, да и вообще умом не блещет, все же могла бы хоть что-то рассказать о состоянии Фазилат.
Как ей, скажите на милость, расспрашивать Цевехана? Как задать хоть один вопрос этому без пяти минут мужчине, пусть пока и в детском обличье?..
Ох, и выскажет она все Сабире Мяршоевой. Дайте только до нее добраться!
– Иди домой. Скажи матери – скоро буду.
– Айбала тоже придет? Мама очень просила, чтобы Айбала непременно…
– Иди! – резко сказала Шуше.
– Спасибо, Шуше Наврузовна. Извините, Шуше Наврузовна!
Мальчик скатился по ступенькам, превратившимся в крутую снежную горку, и исчез в мглистой пелене.
После ледяных сеней натопленный дом казался раскаленным горнилом печи. Скинув шаль и чувяки, Шуше, держа лампу в вытянутой руке, на цыпочках прошла через проходную комнату, где спал, выводя замысловатые рулады, ее муж Джавад, и вошла в спальню Айбалы и Меседу.
Шуше прислушалась к размеренному дыханию младших дочерей. Обе, умаявшись за день по хозяйству, засыпали мгновенно, едва их головы касались сложенных вчетверо джутовых мешков, заменявших подушки. В комнатке не было ничего, кроме продавленного топчана и молельного коврика Меседу. Одежда сестер, развешанная на вбитых в стену гвоздях, напоминала раскинувших черные крылья хищных птиц. Стекло узкого оконца, выходившего на глухую стену заднего двора, было залеплено снегом.
– Айбала, – тихо позвала Шуше и повторила чуть громче. – Айбала!
Девушка тут же открыла глаза – сон у нее, в отличие от сестры, был очень чутким. Осторожно, чтобы не потревожить спящую Меседу, она откинула покрывало, сползла с топчана и одними губами спросила:
– Фазилат?
Шуше кивнула, вышла из спальни, вернулась в проходную комнату. Быстро, стараясь не шуметь, оделась: нижнее платье, шаровары, верхнее платье, вязаная кофта, хлопковая косынка, теплый платок, пальто. Но Джавад все равно проснулся. Сел, недовольно хмурясь, провел ладонями по лицу, расправляя глубокие борозды морщин и приглаживая растопыренные в разные стороны усы. Через вырез исподней рубахи виднелась поросшая жесткими седыми волосами грудь.
– Позвали? – спросил он.
– К Мяршоевым. У их невестки срок подошел.
Шуше сняла с полки всегда стоявшую наготове холщовую сумку, запустила в нее руки, ощупью проверила содержимое.
– Айбалу берешь с собой?
– Она одевается. Спи, мы нескоро вернемся. Может, только к утру.
Джавад проворчал что-то и улегся и через минуту уже снова храпел.
Айбала оделась как подобает: во все темное и закрытое. Юбка в пол, кофта с длинными рукавами, наглухо повязанный платок. Шуше взглянула на дочь и в который (должно быть, в тысячный) раз поразилась ее некрасивости. И в кого только такая уродилась? Смуглое широкоскулое лицо, крючковатый птичий нос, темные бусины глубоко посаженных глаз, придающие ей еще большее сходство с печальной птицей, тонкие бескровные губы. И, словно этого мало, непомерно высокий рост, несуразно длинные руки и ступни такого размера, что даже ботинки Джавада, не говоря уже о чувяках сестер, были Айбале малы – приходилось тратиться для нее на персональную обувку, благо Анвар-башмачник, который давно овдовел и не особо управлялся по хозяйству, в летние месяцы брал овощами с огорода, а зимой – кизяками.
Может, из-за своей внешности засиделась Айбала в девках, а может, из-за странного своего дара, слух о котором вышел уже за пределы аула и разошелся по округе. Она умела утишить боль – не заговорить, а именно приглушить, сделать не такой нестерпимой, что особо ценили роженицы, которые и рожать-то теперь отказывались без Айбалы. Ей достаточно было положить руки на больное место, и боль отступала. Конечно, не насовсем, но хотя бы давала передышку – от нескольких минут до нескольких часов. Разумеется, до мужчин Айбалу не допускали, да она и сама не позволила бы себе прикоснуться ни к одному из них, хотя и не была такой набожной, как Меседу.