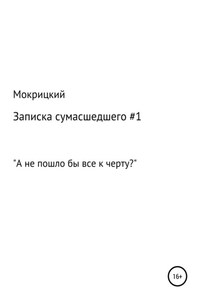Кольшиц ехал в метро. Свободных мест было много, поэтому он сел на скамью и стал смотреть на дверь. Напротив него сидел на своем месте Савушкин и что-то читал.
На Полежаевской рядом с Кольшицем грузно опустился Краснов, и тут же полез в карман за телефоном. Кольшиц скользнул по нему взглядом, и снова начал смотреть на дверь. Савушкин по-прежнему сидел и читал.
На Беговой поезд затормозил резче, чем обычно. Кольшиц навалился на Краснова, и не сразу вернулся обратно. Краснов подумал, что Кольшиц голубой, и посмотрел на него неприязненно. А Савушкин и ухом не повел.
Кольшиц не был голубым. Но истолковал взгляд Краснова по-своему. Он почему-то подумал про свою национальность. И посмотрел на Краснова, как на дверь. Савушкин поправил очки и продолжил чтение.
Краснов не был антисемитом, но жутко не любил голубых. Он подумал маленько, отвел глаза к двери и пробормотал себе под нос: развелось тут вас. Смотрел он при этом почему-то прямо на Савушкина.
Тем временем рядом с Савушкиным опустился пятиклассник Тимкин. Утром мама выдала Тимкину трусы и майку с парусами, и теперь паруса непрерывно перемещались по его голому телу и щекотали бока. Поэтому Тимкин вертелся и болтал ногами, и даже разок несильно пнул Савушкина. Тот помолчал и перелистнул страницу.
Кольшиц вдруг вспомнил, что у него черный пояс по дзюдо. Почти черный. Он откинулся назад и аккуратно ткнул Краснова локтем в мягкий, под курткой, бок. Савушкин и тут не шелохнулся.
Краснов посмотрел на Кольшица. Кольшиц посмотрел на Краснова. Время остановилось в черной дыре около Баррикадной. Оба забыли про семьи свои. В глазах у них была лютая ненависть.
Над Савушкиным навис Дорбидзе, и близоруко начал рассматривать схему метро. Его большая сумка свесилась вперед через плечо и повисла в прямо перед лицом Савушкина. Савушкин вставил голову в пространство между сумкой и поручнем, и скосил глаза в книжку.
Краснов и Кольшиц демонстративно отвернулись друг от друга, и начали смотреть на Савушкина. От их взглядов пиджак Савушкина почти что задымился. Савушкин расстегнул пуговицу на вороте, и заново перечитал предыдущий абзац.
Сомова села с другой стороны Савушкина и практически легла на него. Она ехала после ночной смены, и еще не успела позавтракать, поэтому тут же уснула. Читать стало невозможно. Савушкин прикрыл глаза и не двигался.
Он сидел на своем месте. Кольшица загородили – он шумно дышал, мысленно жуя Краснова вместе с его черным поясом. Краснов уже видел вагон в синем цвете. А Дорбидзе все возил и возил пальцем по схеме, шепча названия переходов, и его сумка стучалась о Савушкинов лоб. Пятиклассник Тимкин вертелся, надувая паруса. И Сомовой снилось, что она забыла что-то очень важное.
Когда доехали до Китай-Города, Савушкин осторожно выполз из-под Сомовой, и вышел.
Без него в вагоне стало как-то пусто.
В первую же ночь у Гаврилова украли тапки.
«Купим новые, – сказала жена. – Пойдем к морю, и купим!» Но Гаврилов отказался. Из принципа.
Пока жена еще раз осматривала сумки, Гаврилов увидел выходящего с полотенцем под мышкой Гогенко.
– Доброго утречка, – прогудел Гогенко. – Вчера приехали? А мы тут уже неделю отдыхаем!
– Доброго, – ответил Гаврилов. И добавил сосредоточенно: Тапок тут моих… не видали?
Тапок Гогенко не видал. И оттого отношения между семьями сразу не сладились.
На пляже сначала все шло хорошо. Но потом камни дьявольски нагрелись. Гаврилов шел по ним, выворачивая пятки, и шипел от боли. Тапки, – думал он. – Где мои тапки?
Со следующего дня Гаврилову приходилось вставать ни свет, ни заря, чтобы занять место рядом с морской полосой. Но туалет, кабинка переодеваний… Мучения Гаврилова продолжались. Он смотрел на море, потом переводил взгляд на ноги счастливцев, которые шли по камням. Закрывал глаза и видел светящееся пятно в виде большого тапка.
Дети Гаврилова играли в съемном доме в увлекательную игру. Они разбили участок на квадраты, довели до седины дворового пса, но тапок так и не нашли.
Когда хозяйка Манукян приготовила восхитительное лобио, Гаврилов сказал семье: тут что-то не так. Бесплатно и так вкусно… А не она ли стащила тапки?
Это бы ничего, но из-за того, что Гаврилов старался меньше ходить по пляжу, он залезал в море редко, потом жадно и долго нырял, и в результате схватил насморк. Сидя в тени и глядя на купающуюся семью, он думал о тех, кто мог свершить с ним такую неимоверную подлость.
Гогенки к тому дню уехали. Вместо них поселилась семья Лист. Папа Лист, мама Лист, дети-листочки. Тапки украсть они не могли. Но семья попалась шумная, отдыхала с азартом, и Гаврилов смотрел на них кисло.
Выбрались на экскурсию. «Какие спокойные жители! Приятный город, не правда ли?», – спросила пенсионерка Реброва. Гаврилов помолчал, хлюпая носом, и кратко ответил: Ворье.
И только в офисе Гаврилова прорвало. «Проклятые тапки! – сказал он Непошитову. – Из-за них весь отпуск коту под хвост!»
Да, – ответил Непошитов. – Не повезло.
Когда Кравец зашел в маршрутку, в ней громко играл шансон. Кравец поморщился – он предпочел бы ехать в тишине. Работал он учителем начальных классов, и сейчас, после трудового дня, голова у него опухла от шума.
Но в маршрутке, кроме водителя, сидела еще студентка Самойлова и бугай Нилов, и Кравец не посмел проявлять недовольства. Ладно, – подумал он, – не дома. Потерплю.
Студентка Самойлова училась на третьем курсе консерватории. Шансон был для нее мучителен. Она вставила наушники, попыталась повторить домашнее задание, но тщетно. Тоскливо глядела в окно, пенсионно размышляя о деградации вкусов.
Бугай Нилов фанател от тяжелого металла. Он с радостью растоптал бы проигрыватель с примитивной музыкой и тошнотворными песнями, но считал, что хозяин здесь шофер. Скрипел зубами и считал, через сколько остановок ему выходить.
А шофер Баранкин… Он и рад был бы поставить любимую аудиокнижку. Но его коллеги всегда ставили у себя шансон, и только шансон. И все пассажиры, как считал Баранкин, не любят копаться в смыслах, и шансон в дороге – для них самое то.
Баранкин утром заводил свою маршрутку, привычно врубал шансон, и больше в течение дня уже не задумывался. Все они – и шофер, и пассажиры, – знали, что нужно думать о других и уметь жертвовать личным ради общего. В большинстве своем они были пре-крас-ней-ши-ми людьми!
Нилов вышел первым, спрыгнул на снег и посмотрел в непросыпанное небо. Вскоре сошла Самойлова и шустро побежала до общежития. Кравец ехал почти до конца, ехал, когда уже не осталось в маршрутке других пассажиров, пытался дремать, но не мог. Пытался думать – и тоже был в этом бессилен. Шансон лез в уши, и даже потом, когда Кравец выполз наружу, шансон еще долго скакал в его голове.